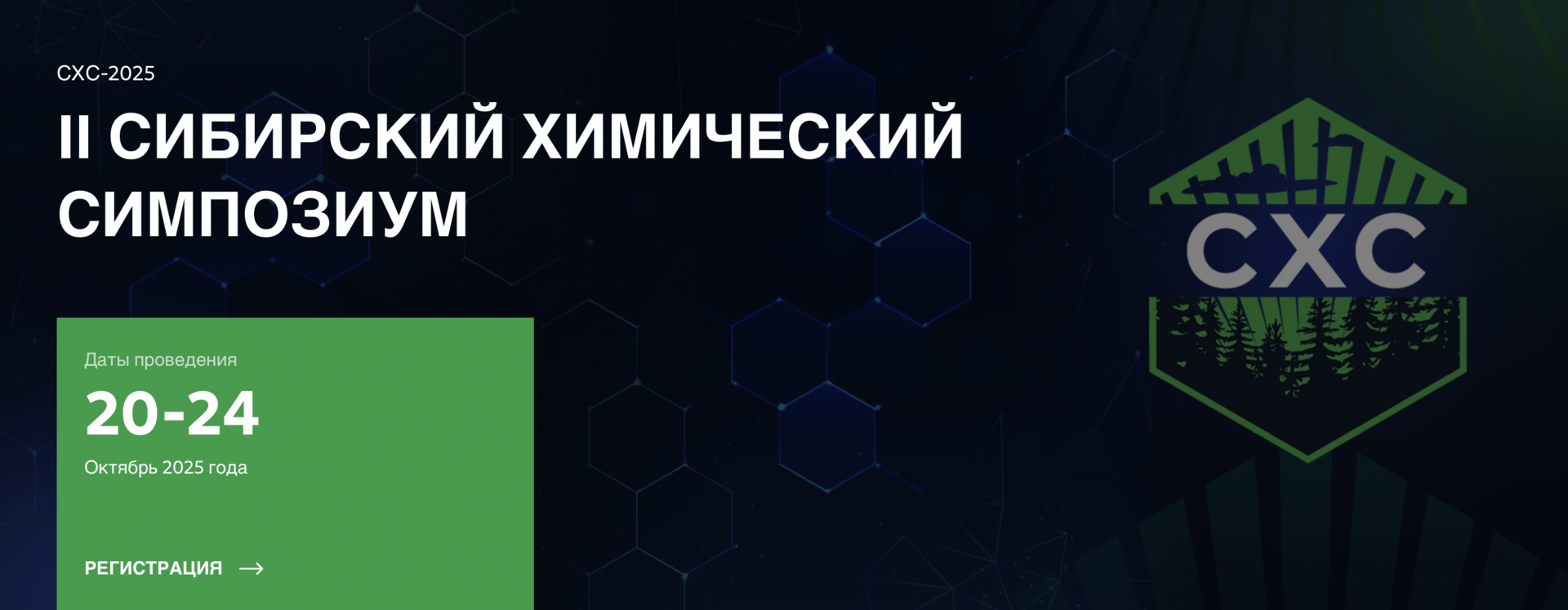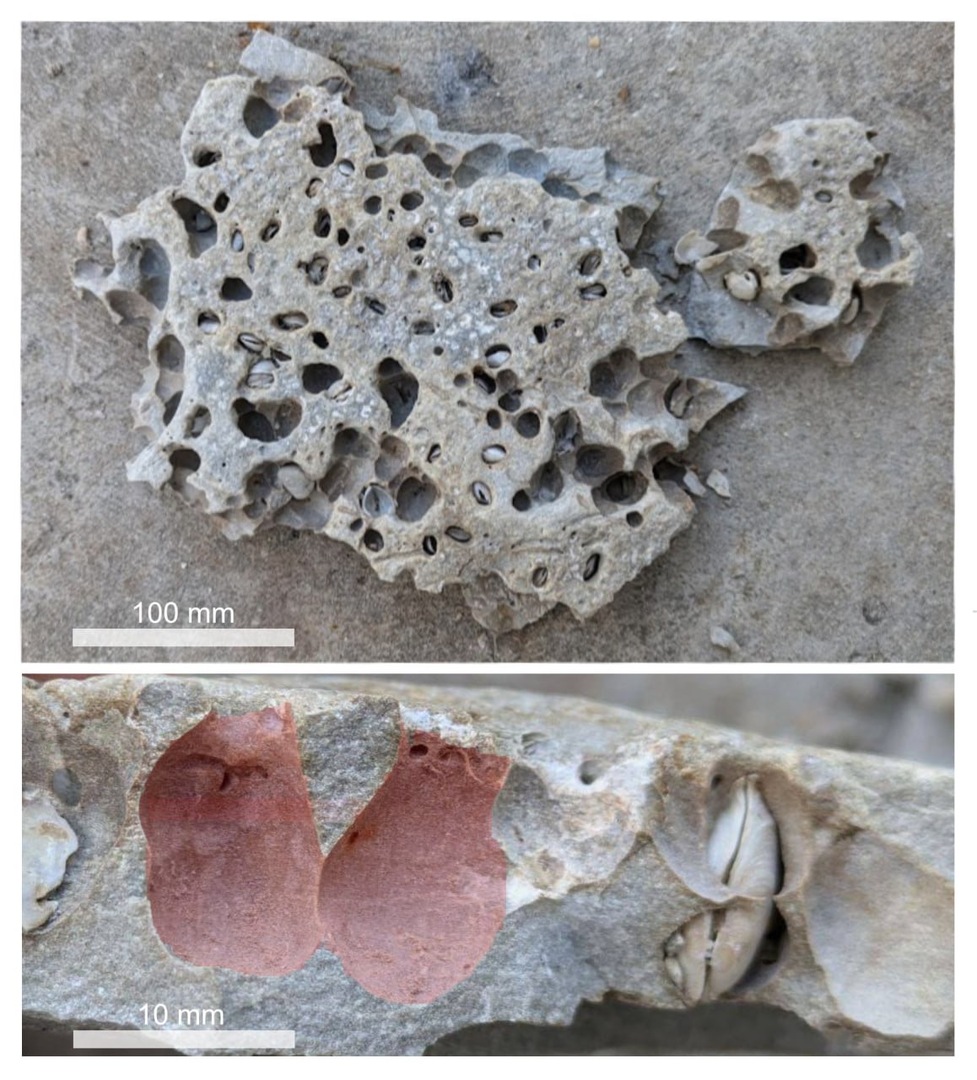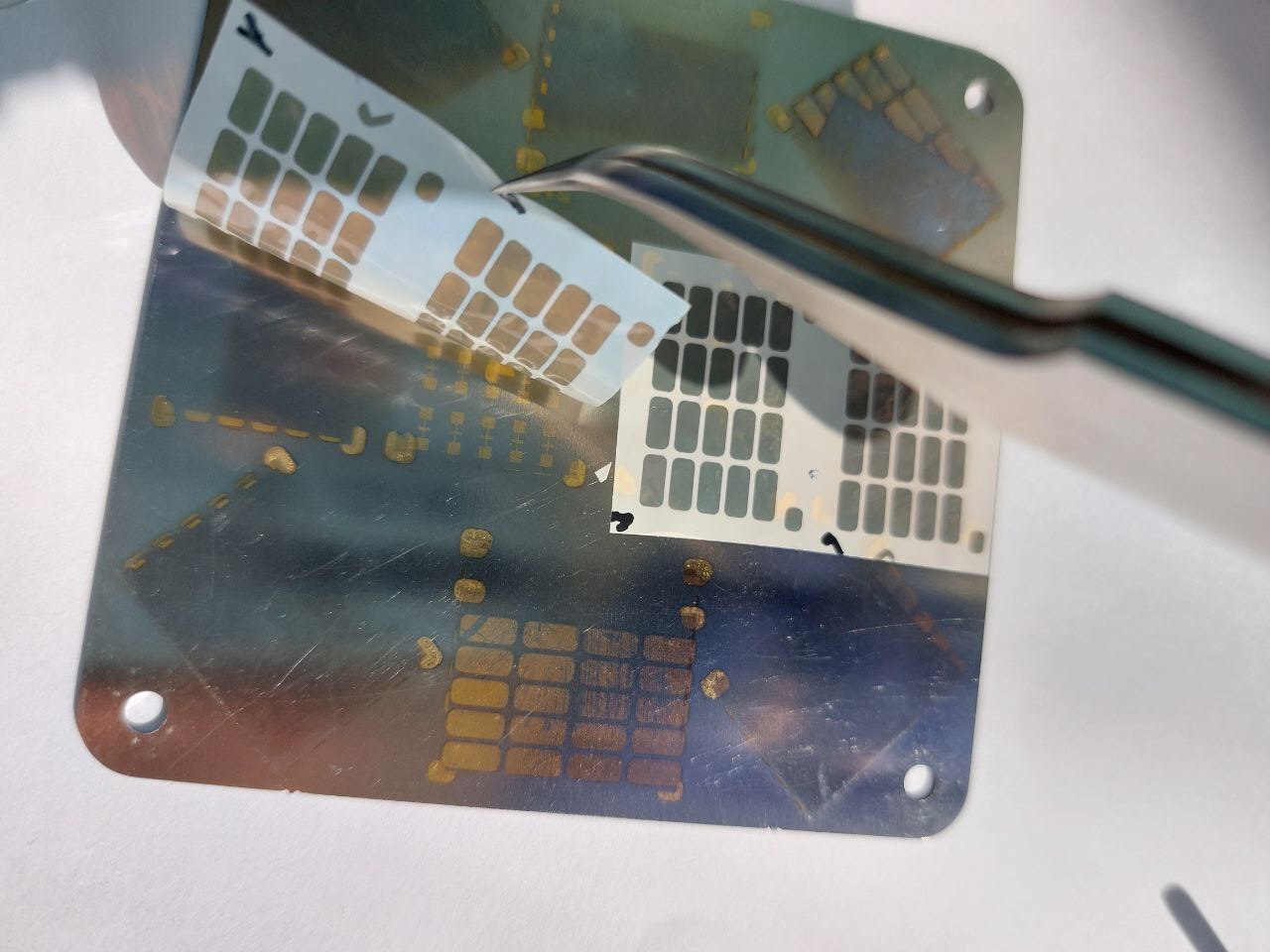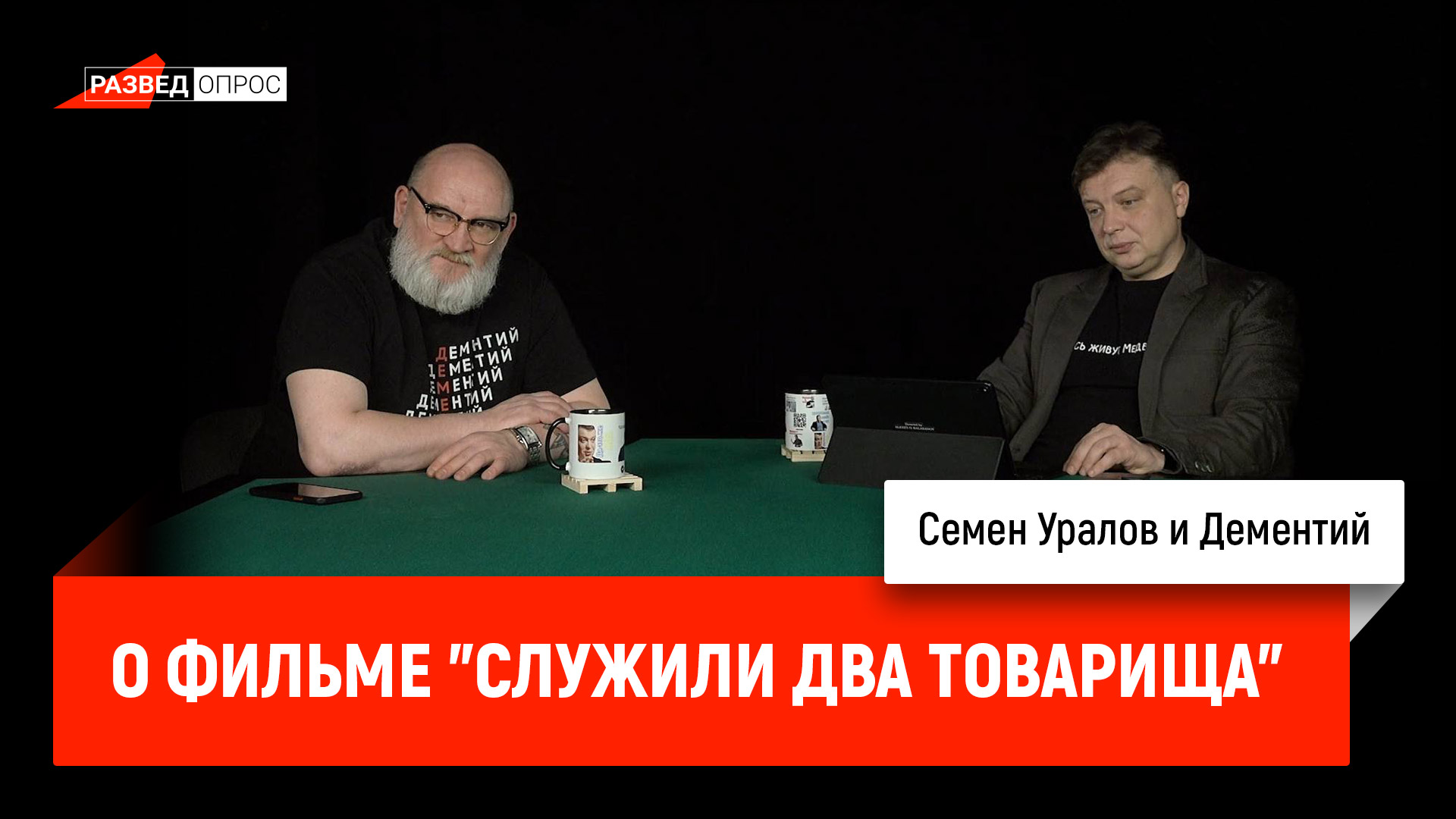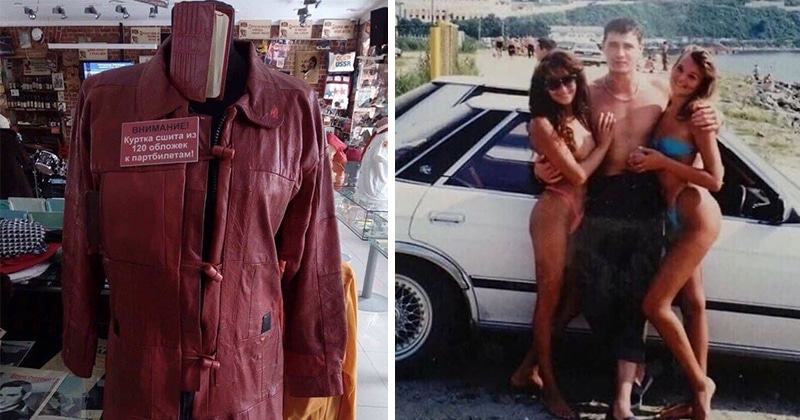Украинский кризис и нити дипломатии
Украинскую коллизию будут изучать как пример конфликта, в котором переплелись все возможные мотивы: от культурно-исторических до военно-стратегических, от религиозных до экономических, от глобальных до местных, от идеалистических до коррупционно-меркантильных. О том, можно ли распутать образовавшиеся узлы и как, Фёдору Лукьянову рассказал Николай Силаев в интервью для программы «Международное обозрение». Фёдор Лукьянов: Когда переплелось так много […]

Украинскую коллизию будут изучать как пример конфликта, в котором переплелись все возможные мотивы: от культурно-исторических до военно-стратегических, от религиозных до экономических, от глобальных до местных, от идеалистических до коррупционно-меркантильных. О том, можно ли распутать образовавшиеся узлы и как, Фёдору Лукьянову рассказал Николай Силаев в интервью для программы «Международное обозрение».
Фёдор Лукьянов: Когда переплелось так много причин самого разного уровня, с чего стоит начинать: от общего к частному или от частного к общему?
Николай Силаев: Думаю, главная проблема в том, что нет субъекта, который может определить раз и навсегда, с чего нужно начинать и чем заканчивать. Мне кажется, нужно браться за разные ниточки и пытаться их тянуть или расплетать. При этом помнить, что сами ниточки имеют политическую нагрузку.
Если посмотреть на публичные заявления, спор идёт от том, что нужно: безусловное прекращение огня или не безусловное. Для Соединённых Штатов ниточка прекращения огня – зримый результат, который они хотят положить на стол и всем предъявить, для них это важно. Для России это вопрос условий прекращения огня.
Другая ниточка – российско-американские контакты. Здесь явно что-то если не сдвинулось, то хотя бы обозначилась какая-то перспектива. Это включает в себя российско-американские противоречия, которые стоят за украинским кризисом.
То, что стороны обозначили намерения с этими противоречиями разбираться и избегать ситуаций, когда они ведут к прямой конфронтации, это тоже она из ниточек, за которую можно потянуть. Происходит поиск ниточек, за которые стоит браться.
Фёдор Лукьянов: Используя эту метафору, получается, если тянуть сразу за несколько ниточек, то они ещё больше запутываются, появляются узелки, и совсем ничего не получается.
Николай Силаев: Хорошая метафора. Недавнее раздражение Соединённых Штатов – это ответ на то, что в Киеве как раз дёрнули за одну из ниточек посильнее. Это такой процесс, когда всё зависит от всего. Наша и американская дипломатии сейчас очень осторожны в оценках и в том, что говорится публично. Это правильно, потому что, пытаясь форсировать что-то одно, можно запутать всё остальное.
Фёдор Лукьянов: Из литературы и публицистики мы знаем, что дипломатия – это размен. Двести лет назад сели тайлераны, расписали на бумажке, кто что имеет и готов отдать, обменялись, ударили по рукам, всё решили. Мне кажется, сейчас так не бывает, да и раньше, может быть, так не было. Как это на самом деле работает?
Николай Силаев: Не уверен, что и раньше было так просто. Есть хрестоматийная история о том, как Черчилль передавал Сталину бумагу, на которой от руки было написано распределение зон влияния в Европе, но это всё-таки исключительный случай. В теории можно представить, что было бы, если бы сейчас так случилось: взяли бы эту бумажку, пошли бы под камеры и показали со словами: «Смотрите, вот он – империализм».
Есть опыт другой дипломатии. Вильсоновская дипломатия после Первой мировой, когда декларировались очень высокие цели и принципы, в соответствии с которыми должен был быть устроен послевоенный мир. Мы привыкли думать о Ялтинской конференции, как об апогее великодержавной политики, но это ведь то событие, которое лежит в основе Организации Объединённых Наций, где вроде как важны не принципы размена, а принципы общего блага.
Вопрос в том, как превратить собственный интерес в принципы общего блага. В течение долгого времени для США это не составляло проблемы, потому что они считали себя (и действительно были) лидерами либерального международного порядка со всего его сложными институтами, поэтому благо Соединённых Штатов признавалось как благо мира. Сейчас в этом все очень сильно сомневаются. В этом сомневаются даже сами США, которые переоценивают принципы свои доминирования. Видимо, дело качнётся опять к бумагам по образцу той, что обсуждали Черчилль и Сталин. Тем не менее принятые решения надо всё равно как-то подавать публике, под них надо искать какое-то обоснование.


Фёдор Лукьянов: Ещё была байка про то, как в Дейтоне Франьо Туджман и Слободан Милошевич передавали друг другу салфетку, на которой рисовали границы Боснии, как их видели сербская и хорватская стороны.
В предшествующий период на Западе говорили, что Россия – имперская держава, которая хочет захватить больше территорий, а мы говорили, что не в территориях дело, а в принципах для того, чтобы обеспечить прочную безопасность и мир. На самом деле, здесь в некотором смысле противоречий нет. Мир без устойчиво территориального размежевания не установишь, база должна быть.
Николай Силаев: Известны случаи, когда мир устанавливался без устойчивого территориального размежевания, если под ним подразумевать мирные договоры и договоры о границах. Есть немало случаев, когда мир как отсутствие войны есть, но юридически он никак не закреплён: Советский Союз / Россия и Япония; Корейский полуостров, где уже все отказались от взаимных претензий на территории, но при этом границы всё равно нет. По-видимому, очень по-разному это каждый раз определяется.
На данный момент последний случай в мировой истории, когда военной силой целиком была захвачена и юридически присоединена территория другого государства, это Вьетнам. Это тоже совершенно особые обстоятельства. В чём-то это напоминает и нашу сегодняшнюю картину: Советский Союз поддерживал Северный Вьетнам, при этом в некоторых случаях он играл и роль посредника между Соединёнными Штатами и Северным Вьетнамом.
Фёдор Лукьянов: Допустим, ниточки будут дёргаться в правильном порядке, но ведь никакие договорённости (хоть небольшие локальные, хоть большие глобальные) невозможны без доверия. Ты должен верить, что противная сторона выполнит то, что обещала. В нашем случае ситуация катастрофическая. В частности по Украине есть опыт Минских соглашений, которые сам же Запад, на мой взгляд из пропагандистских соображений, просто втоптал в грязь. Откуда вообще берётся доверие в таких случаях?
Николай Силаев: Из опыта, потому что есть небольшие шаги, в которых стороны подтверждают свою готовность выполнять сделанные ими обещания. Сейчас мы не знаем, какие именно обещания даются и насколько они выполняются.
Проблема здесь ещё и в том, что сторон, как оказалось, очень много. Ещё год назад мы воспринимали это как конфликт России и «коллективного Запада» с Украиной в качестве ландскнехта, а в последние месяцы оказалось, что и коллективного Запада вроде бы как и нет (или сейчас нет). Эти отношения доверия нужно построить в многоугольнике. Что касается российско-американских отношений, что-то постепенно выстраивается. Что касается России и западноевропейских стран, западноевропейских стран и Штатов, доверие будто оказалось в сообщающемся сосуде: когда чуть-чуть больше появляется между Россией и США, пропадает между США и их союзниками.
Фёдор Лукьянов: У нас долгое время было принято считать, что Украина – не субъект. Ей управляют с помощью ниточек – и как скажут, так и будет. Мне всегда казалось, что это преувеличение, но сейчас ощущение, что ниточки отвязались. С одной стороны, понятно, потому что Зеленскому отступать некуда, с другой стороны, нет. Возможна ли ситуация, когда страна полностью зависима от внешнего патрона, но при этом она способна вести себя не просто независимо, но ещё и пытаться управлять этим патроном?
Николай Силаев: Мне кажется, тезис о прямой и односторонней зависимости сильно упрощает действительность. Тема зависимости одной страны от другой очень актуальна для истории международных отношений и мировой истории особенно второй половины ХХ века и начала XXI века. Сначала были советский и американский лагеря, потом возник однополярный момент – США распространили отношения зависимости на многие страны. Для западных авторов-исследователей эта тема не актуальна, потому что для них это не зависимость, это их союзники. Для тех, кто с Западом не согласен, эта тема важна, но обычно ограничиваются лишь суждением о том, что зависимость существует, не разбираясь в деталях, из чего она именно складывается, как она устроена и насколько она сильна.
Возьмём близкий пример – зависима ли Абхазия от России? Определённо. Может ли Россия при этом добиться, чтобы в Абхазии приняли законодательство, которое обеспечило бы приток российских инвестиций? На протяжении пятнадцати лет этого сделать не получается. Упрощённое представление о зависимости исповедуют люди, которым не приходилось отдавать какие-то распоряжения, а потом контролировать их исполнение. Даже в теории игр обсуждается проблема принципала-агента, насколько зависимый на самом деле зависит и насколько он может влиять на того, от кого он зависит.
В кейсе с Украиной в плане зависимости проблемы две.
Первая – зависимость Украины от Запада работает только в одну сторону. Украина в рамках этой зависимости может повышать градус конфронтации с Россией, но не может его снижать. Это касается не только Украины. К примеру, Грузия в последние годы решила снизить уровень конфронтации с Россией, и механизм зависимости стал работать против грузинского правительства. То же самое происходило и на Украине сразу после прихода Зеленского, когда несколько десятков ответственных организаций выпустили обращение, суть которого сводилась к тому, что не может быть никакого мира с Россией, никаких уступок по русскому языку и нужно продолжать ту же политику, которая была раньше.
Вторая проблема заключается в инструментах зависимости. Сейчас отношения между Украиной и США, конечно, характеризуются зависимостью со стороны Украины, но где инструменты тонкой настройки украинской политики? Ясно (и мы это наблюдали), если Соединённые Штаты прекращают военную помощь, то Украина это сразу ощущает и идёт на какие-то уступки Штатам. Но это вещь, которую невозможно делать каждый день. Если США хотят сохранить Украину как своего клиента и свой актив, они не могут это делать постоянно. Прекратить помощь можно только один раз. Что касается тонких инструментов, они все были построены на тех, кому платила USAID. Теперь USAID нет, и с кем эти люди? Выстраивание новой инфраструктуры тонкого влияния и тонкой зависимости требует многих лет. Прошлая система возводилась десятилетиями.
Фёдор Лукьянов: Может ли Трамп уйти из Украины, если ничего получится?
Николай Силаев: Допускаю, что это возможно.
Фёдор Лукьянов: При этом он выйдет из игры, включая прекращение поддержки?
Николай Силаев: Я бы этого не исключал. Видно, что делать такое ему очень не хочется, потому что это всё-таки американский и западный ресурс. Они стремятся к тому, чтобы прекратить боевые действия сейчас, но сохранить ресурс в виде Украины на будущее. Сам Киев именно этому сценарию отчаянно сопротивляется.
Ещё месяца два назад я совсем не верил, что выход Соединённых Штатов из игры с прекращением поддержки Украины возможен. Сейчас мне кажется, такой вариант есть, хотя это тоже вопрос зависимости. США используют зависимость украинцев и европейцев от них как раз с помощью аргумента: «Мы выйдем». Это тоже вещь, которую можно сделать только один раз, и это очень сильный инструмент. Я не уверен, что так произойдёт – американцы явно стремятся не к этому. Но и исключать не стоит.







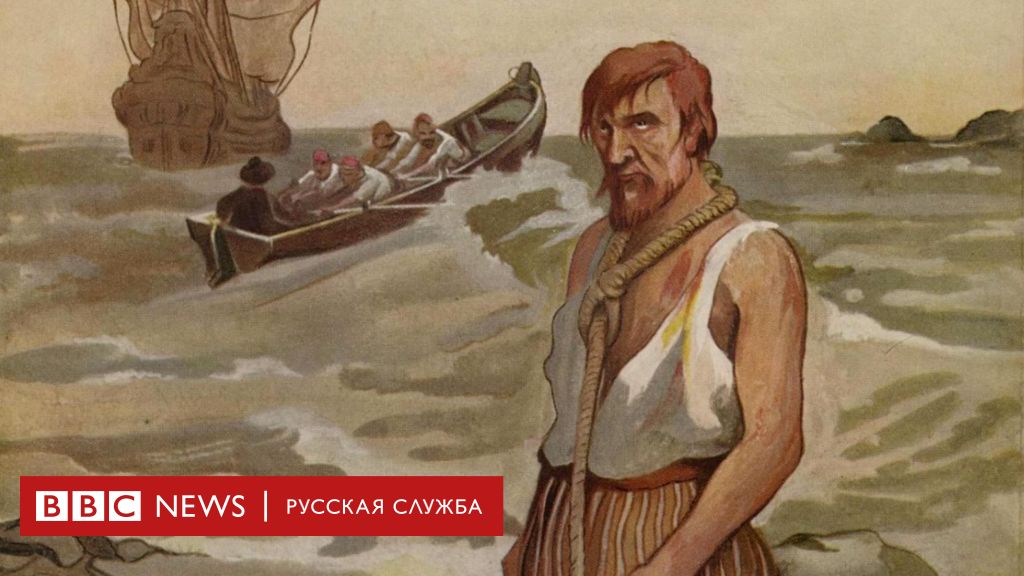


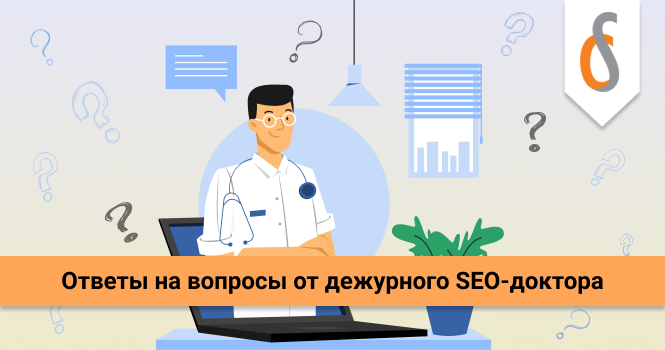



![С миру по нитке (Зарубежье) [30.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2474932,15/125x125xpa/photo.png)
![С миру по нитке [30.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2477203,15/125x125xpa/photo.png)