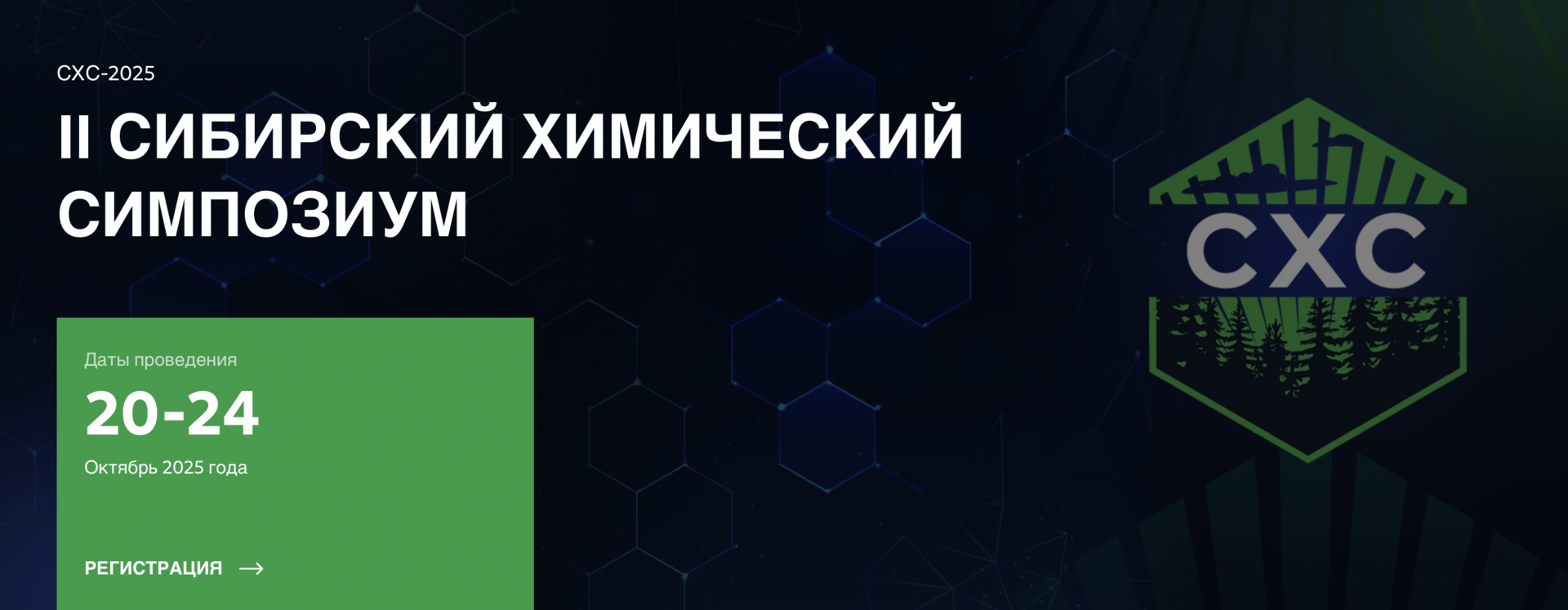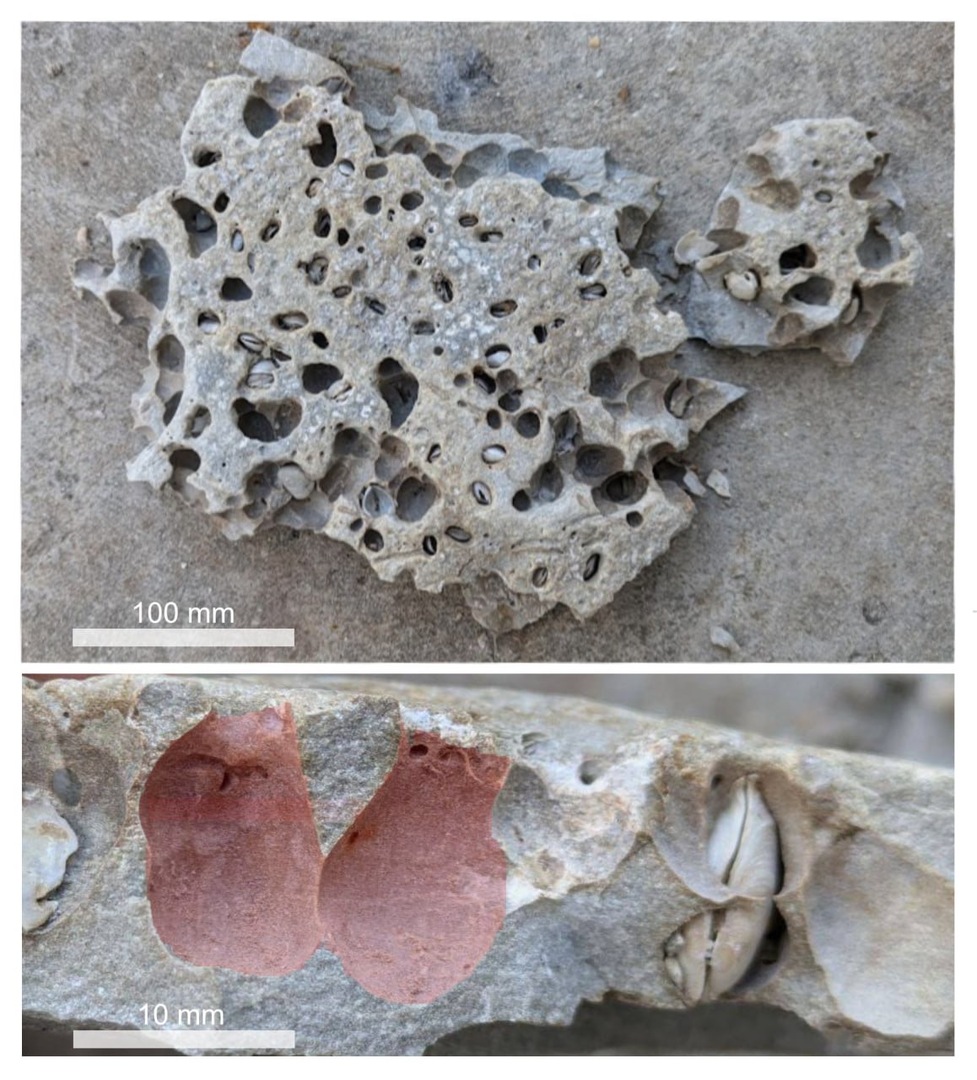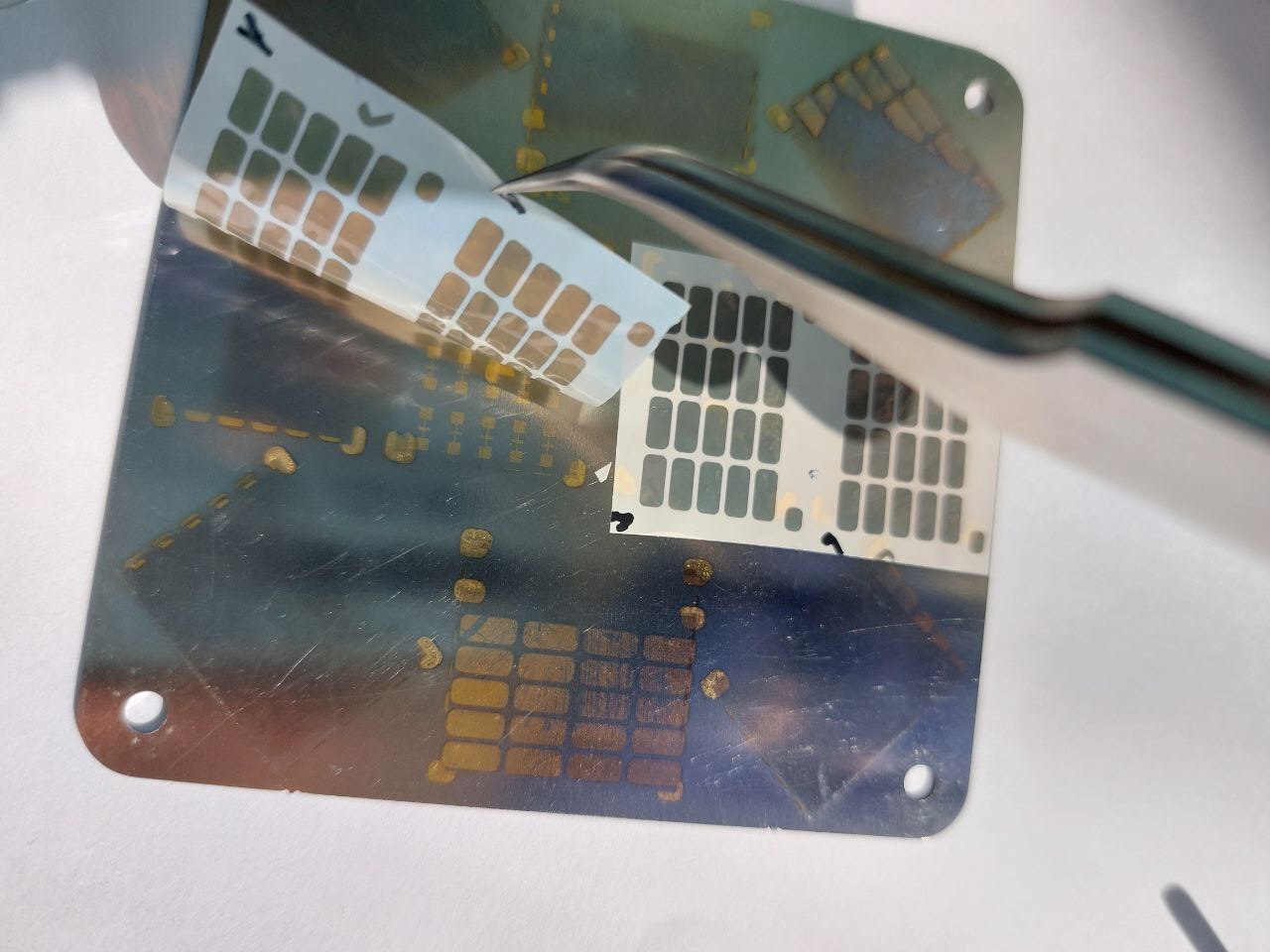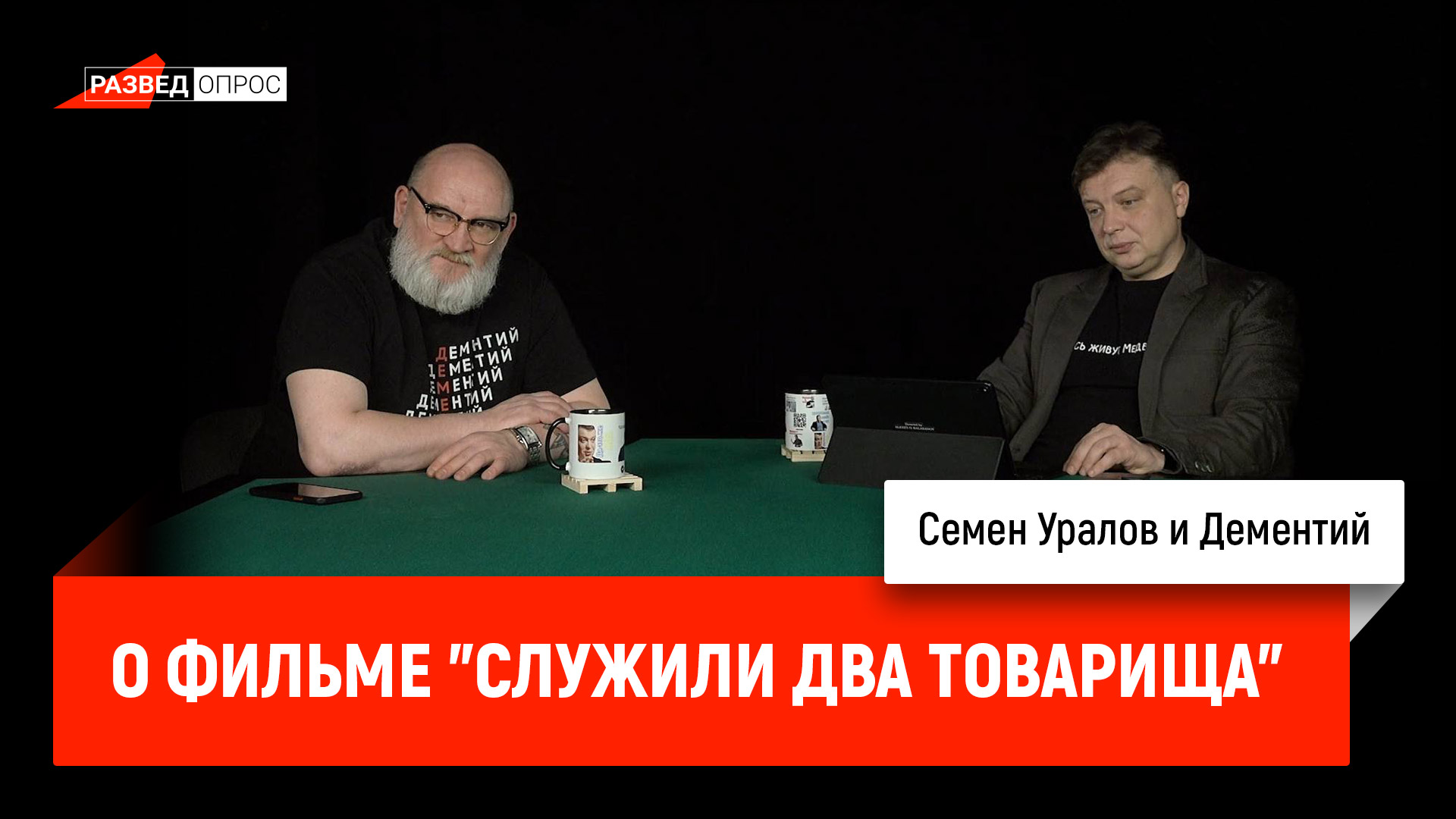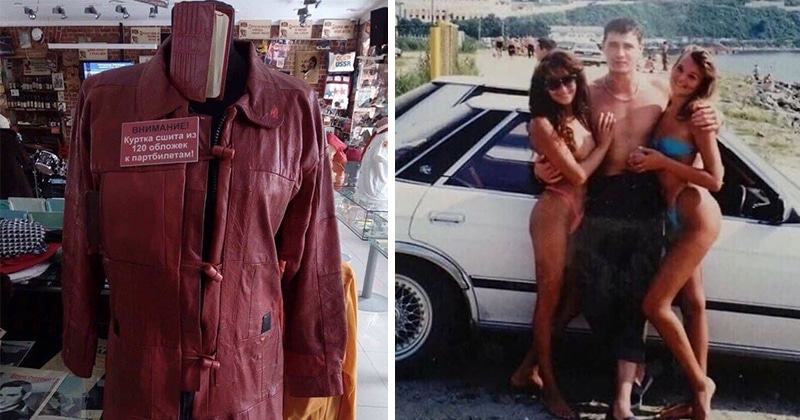Новые дилеммы Старого Света || Итоги Лектория СВОП
21 апреля 2025 г. в Москве состоялся Лекторий СВОП на тему «Европа-2035: война или мир?». О дистанцировании США от украинской тематики, европейской оборонной автономии и трансформации партийно-политических систем в Германии, Франции и Польше Фёдор Лукьянов поговорил с Евгенией Обичкиной, Станиславом Кувалдиным и Филиппом Фомичёвым. Фёдор Лукьянов: Логика поведения американской администрации, включая в том числе неоднократные […]

21 апреля 2025 г. в Москве состоялся Лекторий СВОП на тему «Европа-2035: война или мир?». О дистанцировании США от украинской тематики, европейской оборонной автономии и трансформации партийно-политических систем в Германии, Франции и Польше Фёдор Лукьянов поговорил с Евгенией Обичкиной, Станиславом Кувалдиным и Филиппом Фомичёвым.
Фёдор Лукьянов: Логика поведения американской администрации, включая в том числе неоднократные заявления Трампа и его людей о нежелании заниматься украинской проблемой, даёт основания полагать, что отстранение США от конфликта на Украине и оставление его на откуп стремящейся к стратегической автономии (и теперь имеющей шанс эту автономию в полной мере реализовать) Европе может стать официальной линией Белого дома.
Предположим, что а) США не лукавят, а действительно хотят забыть об украинском кризисе и о том, что туда нужно активно вовлекаться и вкладывать большие деньги, и б) что Европа в подобной ситуации собирает волю в кулак и мобилизуется для выработки собственной независимой политики, реализует ту самую мечту Макрона о стратегической автономии.
Хотя Европа велика и разнообразна, мы сегодня решили сосредоточиться на трёх государствах – Германии, Франции и Польше – которые, на наш взгляд, оказывают существенное влияние на ход мысли Европы в целом. Дождёмся ли мы действий от боевитого в последнее время Эммануэля Макрона?
Евгения Обичкина: Европейская оборонная идентичность, которую так долго продвигала Франция, конечно, во многом зависит от самих европейцев – от их готовности тратить значительные средства на её развитие и от их решимости предпринимать активные действия, включая не только поставки оружия, но и отправку войск в зону боевых действий. Именно такой подход не исключал в своё время Эммануэль Макрон. Тем не менее в обозримой перспективе принятие подобных решений не зависит исключительно от европейцев, а потому европейская оборонная идентичность во многом остаётся иллюзорной.
Франция мечтала об оборонной идентичности со времён Шарля де Голля, а потом совершенно точно и после подписания Маастрихтского договора. Но за всё это время возможности самостоятельно вести боевые действия у Европы не появилось. В этом отношении моментом истины стал 2022 год. Уже в 2021 г., когда Россия адресовала запрос о предоставлении гарантий безопасности США и НАТО без упоминания ЕС, стало совершенно очевидно, что вопросы европейской безопасности решаются без активного участия самой Европы. Сами европейцы не раз говорили о том, что за их оборону и безопасность отвечает НАТО. Первой скрипкой в НАТО всегда оставались США, что связано в том числе с их технологическими возможностями, которыми европейцы не располагают. Довольно показательными в этом смысле стали события 1999 г. – бомбардировки Югославии силами НАТО – когда европейцы поняли, что у них нет того, без чего успешное ведение современной войны невозможно. Я говорю о космической разведке. У Франции был один-единственный спутник-разведчик, но работы одного аппарата недостаточно, чтобы иметь полную картину театра военных действий. С тех пор ситуация практически не изменилась – однажды, в середине 1990-х гг., была предпринята попытка создать второй спутник совместно с Германией, но американцы убедили немцев не вкладываться в этот проект, и он не был реализован.
Сегодня во Франции, в отличие от других стран континентальной Европы, есть собственное производство практически всех видов вооружений, необходимых для ведения полномасштабных военных действий. Однако во французском политическом истеблишменте преобладает убеждение, что участия в большой войне стоит избегать, в том числе потому, что так считают французы. Ещё после Первой мировой войны во Франции укрепилась вера в то, что рисковать своими людьми нельзя – нужно стремиться к разрешению противоречий мирными средствами, сохраняя жизни своих солдат и прекрасную Францию. В то же время, когда Макрон заявлял о возможности отправки военнослужащих для урегулирования украинского конфликта, он уточнял, что речь идёт всё же о миротворческих силах, пусть и обладающих несколько большими полномочиями, чем традиционные «голубые каски».
Говоря о европейской оборонной аутентичности, стоит отметить, что материальные ресурсы для её реализации существуют, но их явно недостаточно. Кроме того, до сих пор большинство решений относительно отправки тех или иных видов вооружений, особенно летальных, европейцы принимали после консультаций с США. Францию это затрагивает не в последнюю очередь – многие французские технологии связаны с американскими, поэтому какие-то поставки США одобряют, а какие-то нет.


Если конфликт будет продолжаться, европейцы будут неизбежно оставаться в упряжке США, нуждаясь в их поддержке – об этом свидетельствуют, во-первых, опыт мировых войн, во-вторых, глубокая вовлечённость ЕС в украинский конфликт. Если урегулирование конфликта будет достигнуто в ближайшее время, европейцы выйдут ослабленными и истощёнными, и роль Европы в противостоянии США и Китая уменьшится. Если же конфликт прекратится без явной победы одной из сторон, урегулирование будет носить временный характер и, скорее всего, станет лишь передышкой перед новой битвой или новым прокси-конфликтом. Подобная напряжённость может сохраняться на протяжении десятилетий, и в этом случае Европе тоже будет крайне важна поддержка США, их технологии и ресурсы.
Не буду утверждать, что Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы европейцы глубоко вовлекались в войну. Дела Евразии Америку не особо интересуют – здесь все воюют друг с другом и истощают себя. Европа в любом случае останется верным клиентом, с Россией можно развивать экономические связи или сфокусироваться на ослаблении стратегического партнёрства России и Китая. Куда интереснее для США Индо-Тихоокеанский регион, новый геополитический центр. Франция тоже давно обратила свой взор на ИТР – как единственная страна континентальной Европы, имеющая здесь владения, она стремилась выступать голосом ЕС, задумав создание осей с Индией, Австралией и Японией. Цель – цифровые коммуникации и торговые пути, ведущие на Ближний Восток. Французский проект в ИТР, реализуемый, по сути, в 2018–2019 гг., дал трещину после создания AUKUS. Австралия повернулась к США, отказалась от французских подводных лодок. Политика Франции в ИТР потерпела фиаско. США оставили себе глобальное лидерство и возможность активно действовать в привлекательном со всех сторон ИТР, а Европе – роль в региональном урегулировании, в том числе на Украине.
Фёдор Лукьянов: Мерца, в отличие от Макрона, мы знаем похуже, но по боевитости он своему французскому коллеге не уступает. Можно ли ожидать, что новое немецкое правительство под руководством Мерца изменит свой курс в отношении поставок оружия на Украину или, напротив, поймёт, почему Шольц был осторожен?
Филипп Фомичёв: Это очень сложная тема. Стоит заметить, что уровень нынешней предвыборной риторики скорее нехарактерен для Германии. Политический консенсус здесь всегда был достаточно прочным – партии во многом похожи между собой, а расхождения между предвыборными заявлениями и реальной политической практикой прослеживались незначительные, если не брать в расчёт какие-то исключительно чрезвычайные ситуации. В то же время текущая ситуация вполне может квалифицироваться как чрезвычайная, что позволяет ожидать более резких шагов со стороны политиков.
С другой стороны, на фоне происходящего между США и Россией, заявления Мерца выглядят неоднозначно. Общественность в Германии в целом не готова к открытому конфликту с Россией. Хоть общественные настроения и являются вещью непостоянной и регулируемой, можно наблюдать, что Мерц высказывает довольно-таки непопулярные идеи. Обычно о таких вещах не принято заявлять вслух, а в случае необходимости претворения их в жизнь всё делается без лишнего шума. Возможно, мы наблюдаем феномен «инверсии действий», когда политики специально запугивают общество, чтобы впоследствии отказаться от радикальных мер, выступая в роли «разумных» государственных деятелей.
Проблема заключается в том, что Германия среди крупных европейских держав обладает наибольшим разрывом между потенциальными и реальными возможностями – военный потенциал страны остаётся значительным даже с учётом перестройки индустрии. К 2027-му, 2029-му или 2035-му – в разное время назывались разные сроки – Германия должна восстановить свою промышленную базу.


Более объективные статистические срезы показывают, что до 60 процентов мужчин в возрасте восемнадцати-сорока лет были бы готовы вступить в армию в случае военной мобилизации.
Мобилизационный потенциал в Германии большой, учитывая особенности ведения современной технологической войны – сейчас, в отличие от конфликтов XX века, в бою нужны совсем другие контингенты. В целом не стоит недооценивать теоретическую готовность немецкой экономики, промышленности и общества к ведению боевых действий. Юрген Хабермас[1] в одной из своих недавних статей отмечает, что со стороны Европы было опрометчиво, с одной стороны, так рьяно бросаться помогать Украине и, с другой стороны, не задуматься о возможных последствиях прихода Трампа в Белый дом.
Ситуация не то чтобы безвыходная, но она весьма необычная для Европы и Германии. Даже если США дистанцируются от украинского конфликта, это не значит, что американская поддержка мгновенно иссякнет. Как я понимаю, американские спутники продолжают поставлять информацию украинской армии и, вероятно, будут делать это и впредь. США будут помогать Украине в той степени, в которой посчитают нужным. Хабермас также подчёркивает, что Германия и Франция должны взять на себя лидерство в вопросе обеспечения европейской безопасности, но Германия сейчас не в состоянии провести перевооружение таким образом, чтобы обеспечить защиту и себя, и части Европы. Военное строительство Германии должно осуществляться, по мнению Хабермаса, в тесной координации с европейскими государствами, только в рамках общеевропейской милитаризации.
Фёдор Лукьянов: От Польши всегда ждут боевитости, но сейчас происходит скорее обратное – если год назад польские политики звучали очень бравурно в отношении России, сейчас резких высказываний гораздо меньше. Кажется, что Польша стала более реалистично смотреть на перспективы Украины в этом конфликте. Почему так происходит?
Станислав Кувалдин: Я согласен, что сейчас Польша демонстрирует весьма реалистичный подход к Украине, российско-украинскому кризису и своему возможному участию в его разрешении. Не сказал бы, что два года назад польский политический класс делал какие-то сверхавантюрные заявления. Тогда Польша проявила себя как безусловный сторонник Украины – приняла значительное количество беженцев, что отвечало и польским интересам, поскольку давало Польше очки «мягкой силы». Вместе с тем Варшава никогда не выражала желания открыто вовлекаться в вооружённый конфликт с Россией. Исключением стало несколько неосторожное заявление Ярослава Качиньского, председателя партии «Право и справедливость» и на тот момент вице-премьера. В первые недели после 22 февраля 2022 г. он допускал возможность ввода польских войск на территорию Украины, что в целом отражало пессимистичные ожидания Польши относительно исхода конфликта для Украины с предположением о необходимости взять под контроль часть украинских территорий в случае распада Украины как государства. Но после того, как стало ясно, что Украина способна сопротивляться России при поддержке западных союзников, от этих идей сразу было решено отказаться, и дальнейшие сообщения о возможном вступлении польских войск на Украину Варшава отрицала.
Сейчас одним из аргументов Польши против непосредственного участия в конфликте является нежелание давать России повод для утверждений, что Варшава изначально стремилась к военному вмешательству. Среди других причин польской сдержанности в отношении вопроса ввода войск можно назвать сохраняющиеся исторические противоречия с Украиной, возможную негативную реакцию соседних Польше государств.


В частности, открытие сельскохозяйственных рынков для украинской продукции представляет серьёзный вызов для польского мелкотоварного крестьянства, которое, помимо прочего, составляет электоральную базу не только Польской крестьянской партии, но и «Права и справедливости» и других правых партий. Кроме того, не стоит забывать и о миграции украинской рабочей силы в Польшу как о ещё одном факторе социальной напряжённости. В первые месяцы специальной военной операции Польша инстинктивно поддержала Украину, открыв свои двери для украинских беженцев, но с течением времени социальные трения стали нарастать. Если до февраля 2022 г. миграционный поток шёл преимущественно из западных регионов Украины, то теперь многие беженцы приезжают с востока страны, где степень культурной близости и симпатий к Польше значительно ниже, что тоже создаёт дополнительные вызовы.
Фёдор Лукьянов: Президентский срок Макрона закончится в 2027 г., и переизбраться он уже не сможет. Параллельно со всех сторон предпринимаются усилия, чтобы его политическая соперница Марин Ле Пен не получила возможность стать во главе страны. Куда будет двигаться Франция в идеологическом плане?
Евгения Обичкина: Франция сегодня находится в интересном положении. Страна переживает глубокий кризис, связанный с трансформацией партийно-политической системы, которая господствовала во французской политике долгое время – по сути, на протяжении последней трети XX века и в начале XXI века. Казалось, что после 1981 г. французское общество и французский политический класс пришли к консенсусу, объединившись вокруг идеи государства всеобщего благоденствия. Сформировалась система, напоминающая англосаксонскую партийную модель, в которой две основные партии находятся в центре политического спектра, между ними нет серьёзных идеологических разногласий, поэтому смена власти не приводит к коренным изменениям идеологического курса. Французы успокоились, и в стране установился своего рода «электоральный рынок», на котором избиратели могли свободно перемещаться и выбирать то один, то другой электоральный продукт в зависимости от конъюнктуры и «упаковки», а не руководствуясь идейными предпочтениями.
Сейчас ситуация другая – французы стали жить относительно хуже, наступило неспокойное время, начали сказываться последствия затяжного экономического кризиса. Уровень жизни упал, исчезла вера в прогресс и в то, что следующие поколения французов будут жить лучше своих предшественников. Особенно сильно в этом смысле на французах сказался кризис 2008 года.


В современных реалиях большинство избирателей руководствуется как раз таки протестными настроениями и голосует за крайне левых или крайне правых. Сторонники правых оказались недовольны фиаско Франсуа Фийона в 2017 г. из-за скандалов, связанных с его именем, но, разочаровавшись в партии, они не разочаровались в идеях. Эти избиратели, своего рода «осиротевшие голлисты», частично стали голосовать за Марин Ле Пен, которая взяла на вооружение голлистскую риторику. За правых голосует много молодёжи и много пожилых людей, потому что в их программе сильный социальный блок. Крайне правые и крайне левые не могут договориться между собой, а центристское правительство не опирается на волю избирателей. Макрон – это своего рода «великий комбинатор», способный договориться с кем угодно, но в условиях практически полного отсутствия альтернатив – либо Макрон, либо Ле Пен – он стал техническим кандидатом. К следующим выборам макронисты найдут нового кандидата вместо уходящего Макрона. За макронистами пойдут центристы, а за центристами какое-то будущее всё-таки есть, если не произойдёт каких-то серьёзных потрясений в экономическом плане или в плане безопасности. Французы боятся исламского терроризма, поэтому, если перед выборами произойдёт серия покушений или терактов, многие французы пойдут голосовать за Ле Пен. На парламентском уровне «стеклянный потолок» уже пробит, на президентском пока непонятно, но в любом случае всё возможно.
Фёдор Лукьянов: Немцы, с которыми мне довелось пообщаться в преддверии недавних выборов, говорили одно и то же – это последние выборы, когда в правящую коалицию не вошла партия «Альтернатива для Германии». Следующие выборы, которые, скорее всего, пройдут раньше запланированного 2029 г., дадут ещё больше голосов этой партии. Если представить, что АдГ существенно влияет на формирование немецкого политического курса, каким будет этот курс?
Филипп Фомичёв: Я бы согласился с утверждением, что, если в Германии возникнет чрезвычайная ситуация, усиливающая внутреннее напряжение, выборы могут пройти раньше 2029 года. В таком случае партия «Альтернатива для Германии», «Левые» и «Зелёные», которые в настоящее время уходят резко влево, вероятно, смогут набрать суммарно более 50 процентов голосов. Остальные проценты достанутся трём классическим партиям, которые долгое время формировали немецкую партийную систему «двух с половиной партий» – ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП. Когда в парламент вошли «Зелёные», они быстро встроились в центристский консенсус.
Сейчас центристского немецкого парламента больше нет. Наблюдается поляризация общества, которая несколько отличается от французского варианта, поскольку рост поддержки АдГ происходит во многом за счёт избирателей, ранее не голосовавших на выборах или отдававших свои голоса мелким партиям. Многие по-прежнему опасаются голосовать за АдГ из-за навязанных мейнстримными медиа ассоциаций с нацизмом, хотя постепенно этот страх рассеивается – люди видят, что представителей АдГ приглашают, например, на телевидение.
Политическая система Германии отличается от французской, в частности отсутствием прямых выборов президента и канцлера. Весьма вероятно, что АдГ продолжит наращивать своё влияние, и вовсе не факт, что партия не соглашается на компромиссы сейчас, чтобы набить себе цену и согласиться на участие в большой коалиции с кем-то в будущем. Это мнение можно часто слышать как от немецких, так и от российских экспертов, однако оно ошибочно. Разумеется, партия теоретически может войти в правящую коалицию, но это маловероятно, по моему мнению. Всё время существования партии – двенадцать лет – её успех обеспечивался именно за счёт того, что внутри АдГ верх брали те силы, которые сохраняли принципиально-оппозиционную линию партии, допуская участие в правительстве только на собственных условиях. Это долгий и важный процесс, который нельзя упускать из поля зрения.
Фёдор Лукьянов: В Польше партийно-политическая система более стабильна? Польская двухпартийность никуда не девается?
Станислав Кувалдин: Я бы не сказал, что всё стабильно. Польская политическая система представляет собой двухпартийную модель с соперничающими между собой «Гражданской платформой» и «Правом и справедливостью», и их противостояние, конечно, весьма ценностное. ПиС, возглавляемая Ярославом Качиньским с 2010 г. является партией одного лидера, для которого политика всю жизнь занимала центральное место, для которого была важна власть и реализация своей ценностной программы. Качиньский стремился к воссозданию в Польше некоего консервативного идеала и очищению страны от того, что он считает уродливым наследием компромисса между бывшими коммунистическими элитами и либеральной оппозицией, которые в 1989 г. вступили в коррупционный сговор, разделили между собой власть и не допустили к ней истинных польских патриотов.
Придя к власти, Качиньский делал всё, чтобы ПиС всегда оставалась во власти – была проведена реформа судебной системы, которая лишила суды автономии, был усилен контроль над средствами массовой информации, государственное телевидение стало использоваться для уничтожения оппонентов. В 2023 г. к власти в Польше пришла «Гражданская платформа», мобилизовавшая электорат больших городов, поддерживающий демократов и левых. Польша разделена – с одной стороны, есть мегаполисы, интегрированные в европейскую экономику и либеральную повестку, с другой – есть мелкие и средние города с более консервативным населением, интересующимся скорее внутренними вопросами. На ближайших президентских выборах многое может решиться. Если победит кандидат от ГП, партия сможет осуществить свои планы по устранению наследия ПиС в области судебной реформы, контроля над средствами массовой информации, но в этом случае перестройка госаппарата неизбежна. Если же победит представитель ПиС, начнётся жёсткое противостояние между правительством и президентом, и неизвестно, сможет ли правительство в таком случае сохранить власть. Также будет интересно, если во второй тур сможет пройти представитель от партии «Конфедерация», которая занимает более сбалансированную позицию в отношении России. В последние недели «Конфедерация» значительно набирает поддержку.







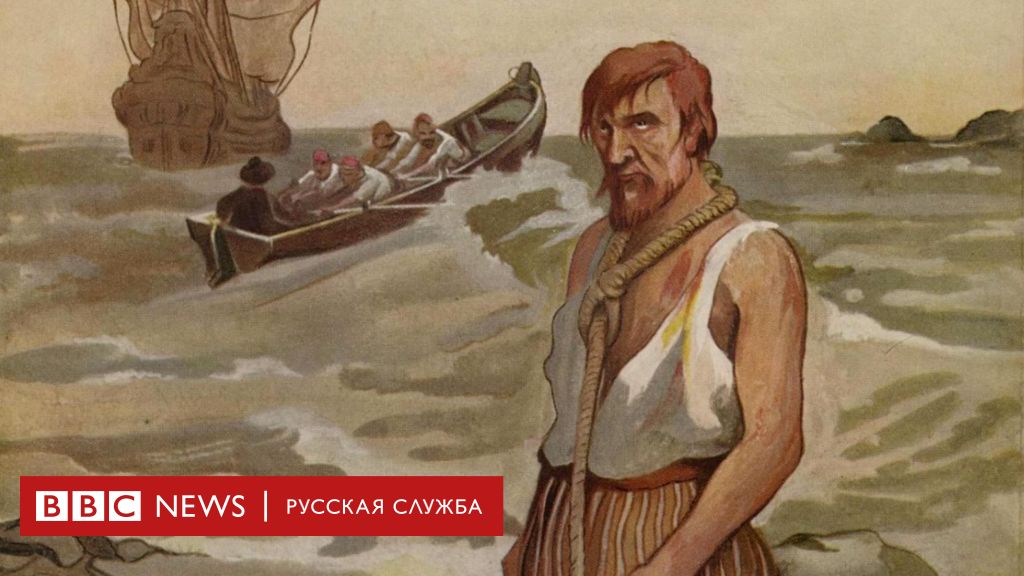


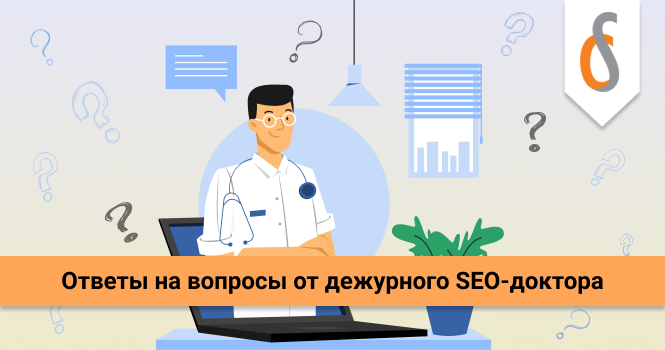



![С миру по нитке (Зарубежье) [30.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2474932,15/125x125xpa/photo.png)
![С миру по нитке [30.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2477203,15/125x125xpa/photo.png)