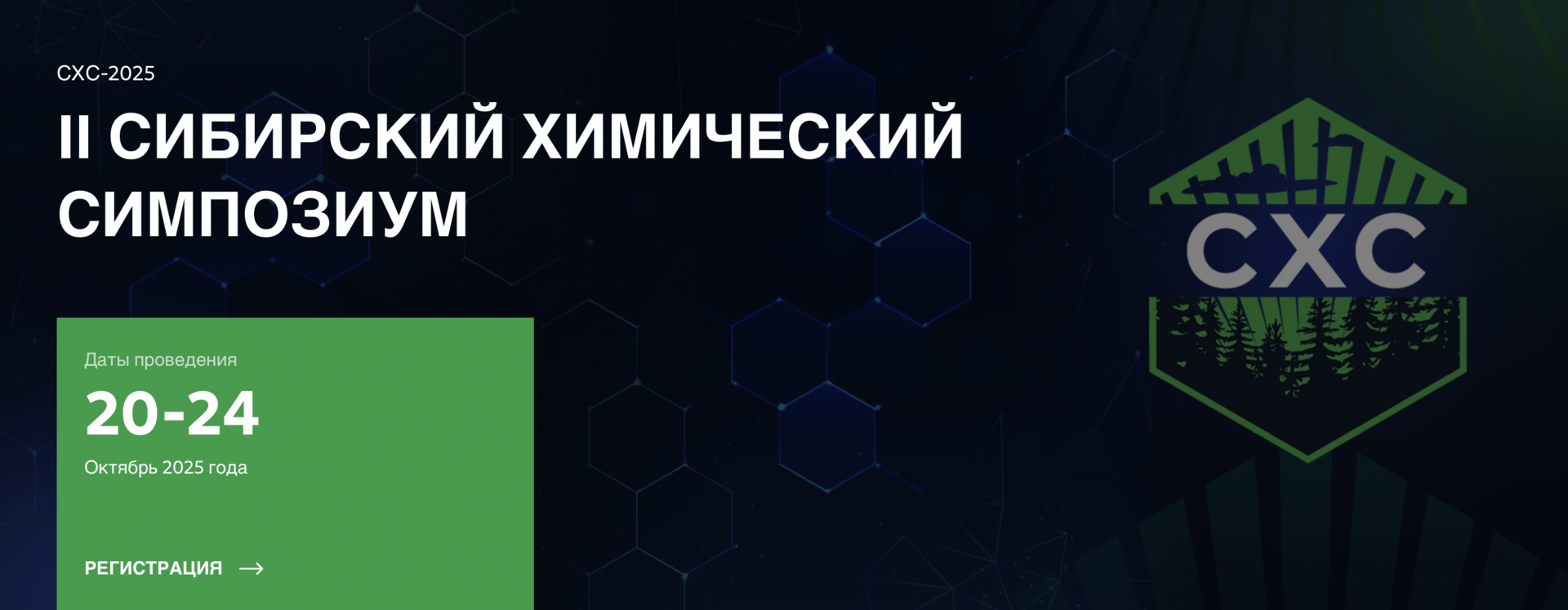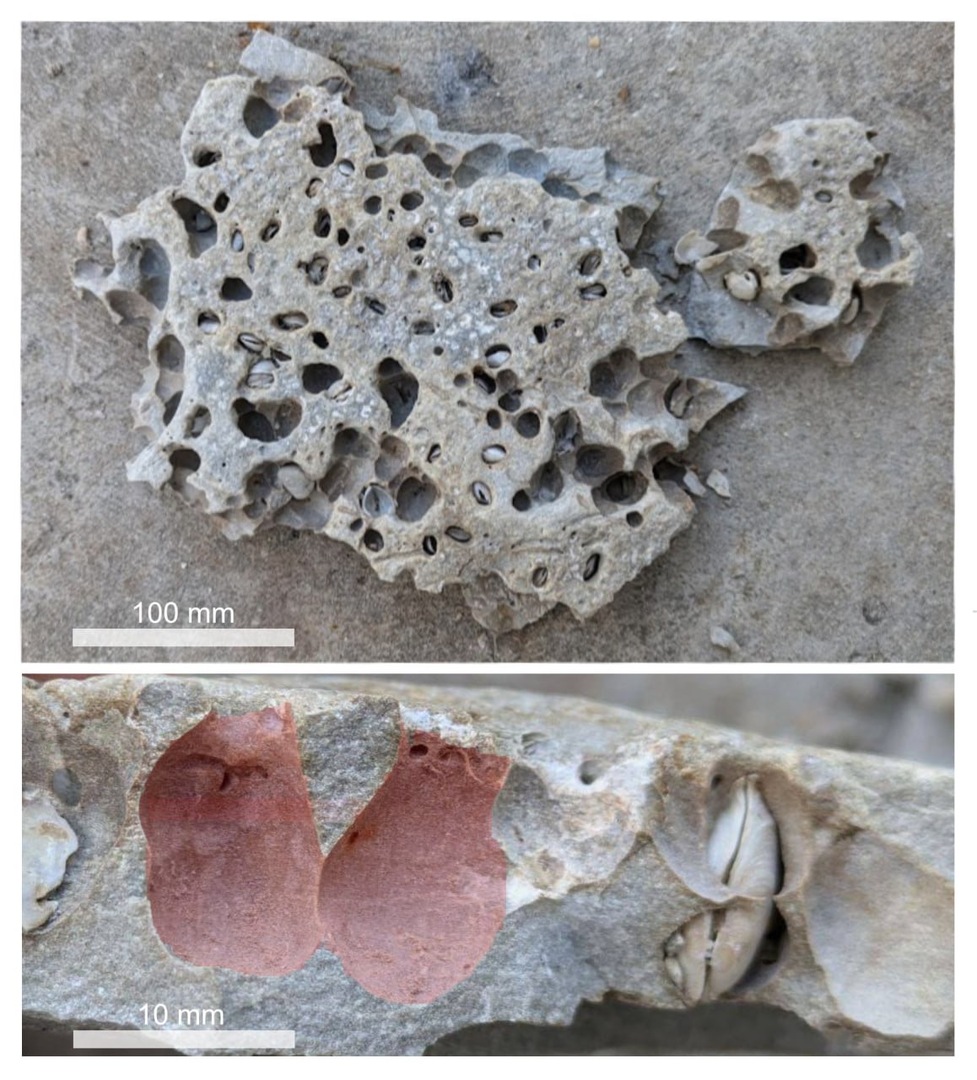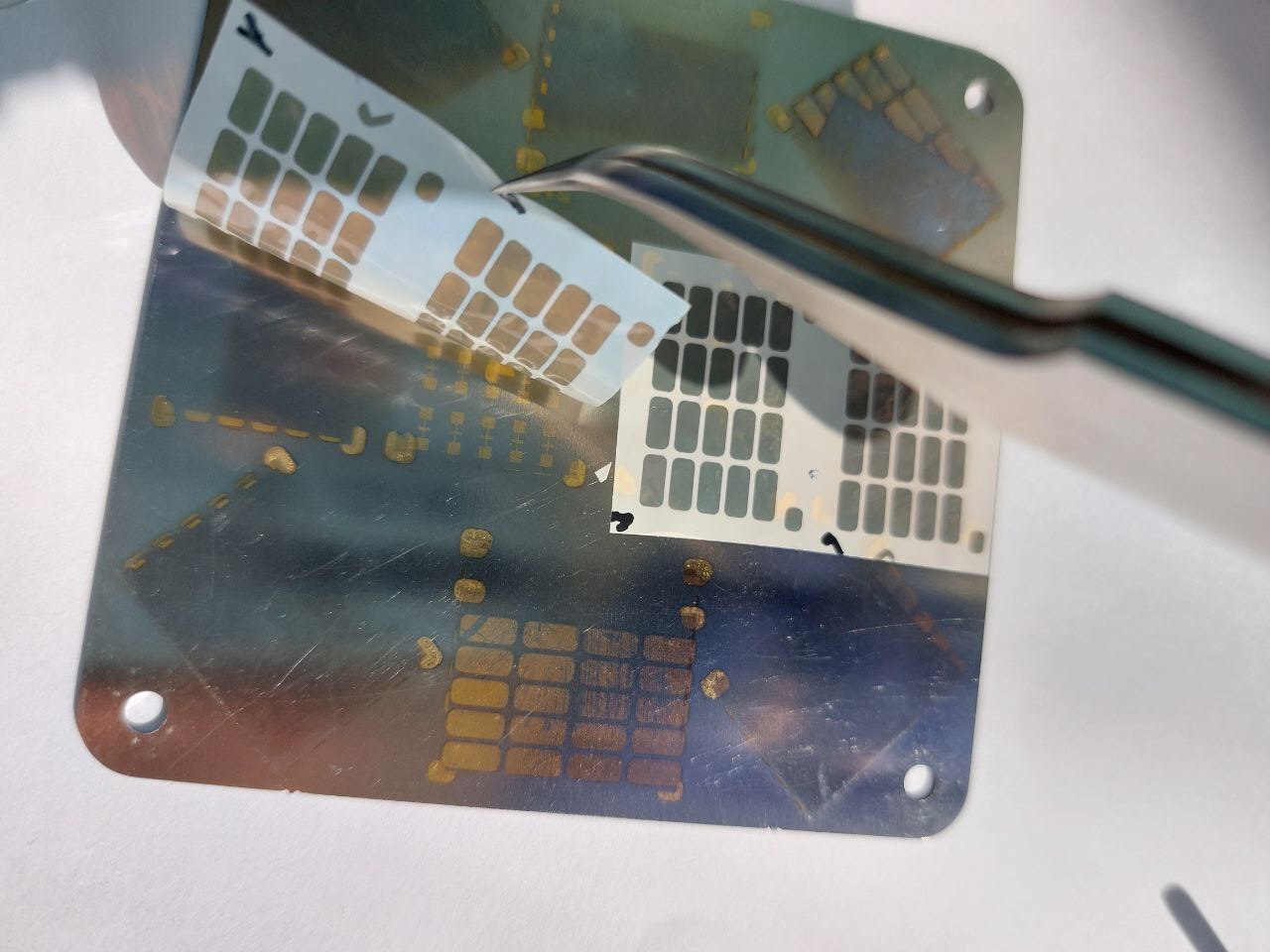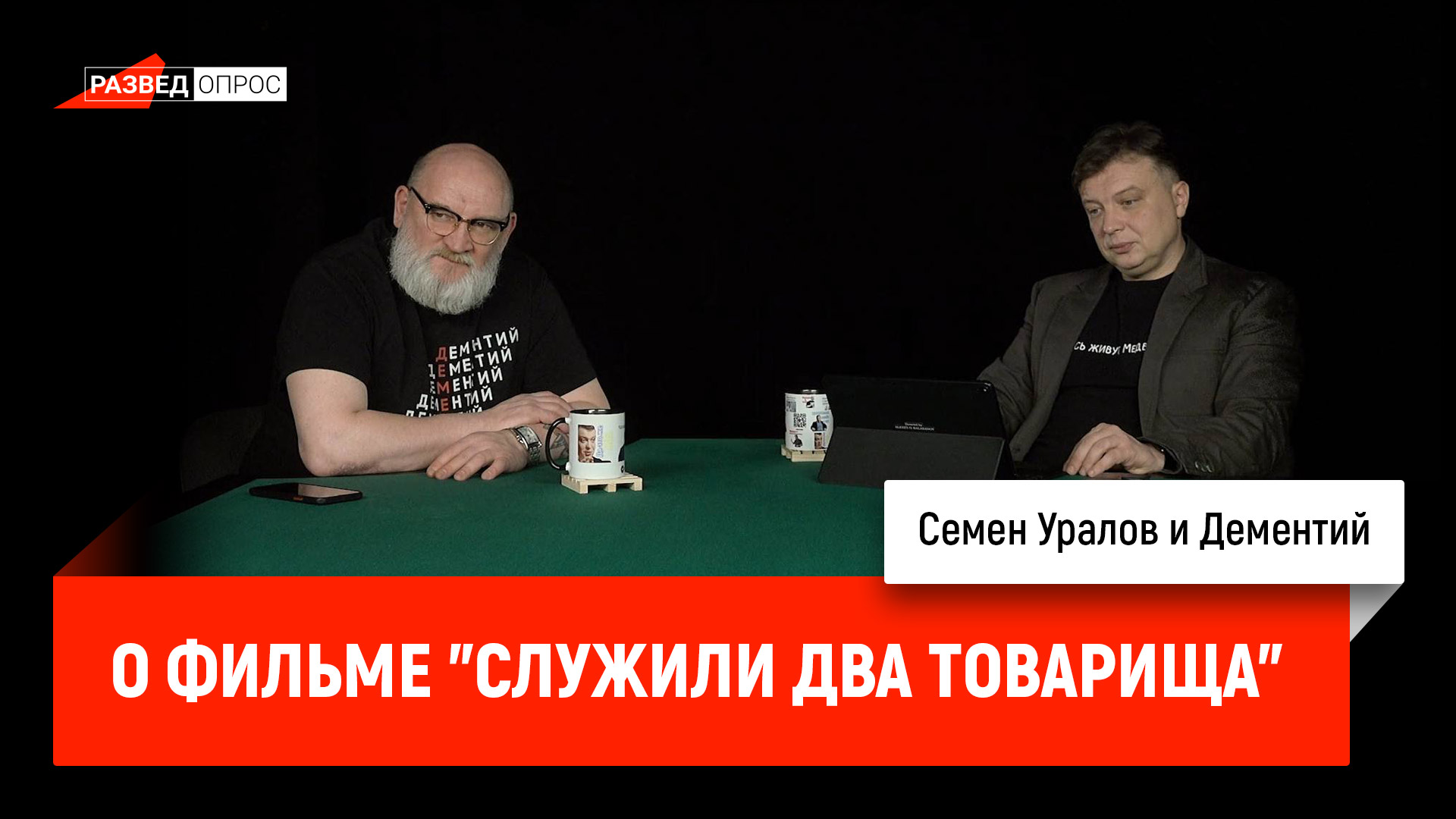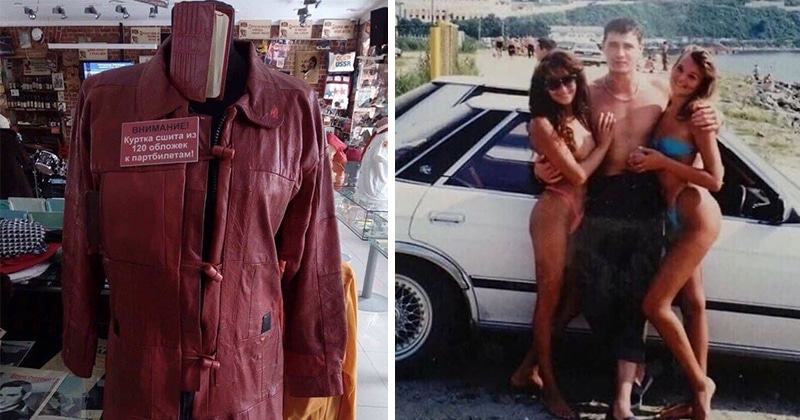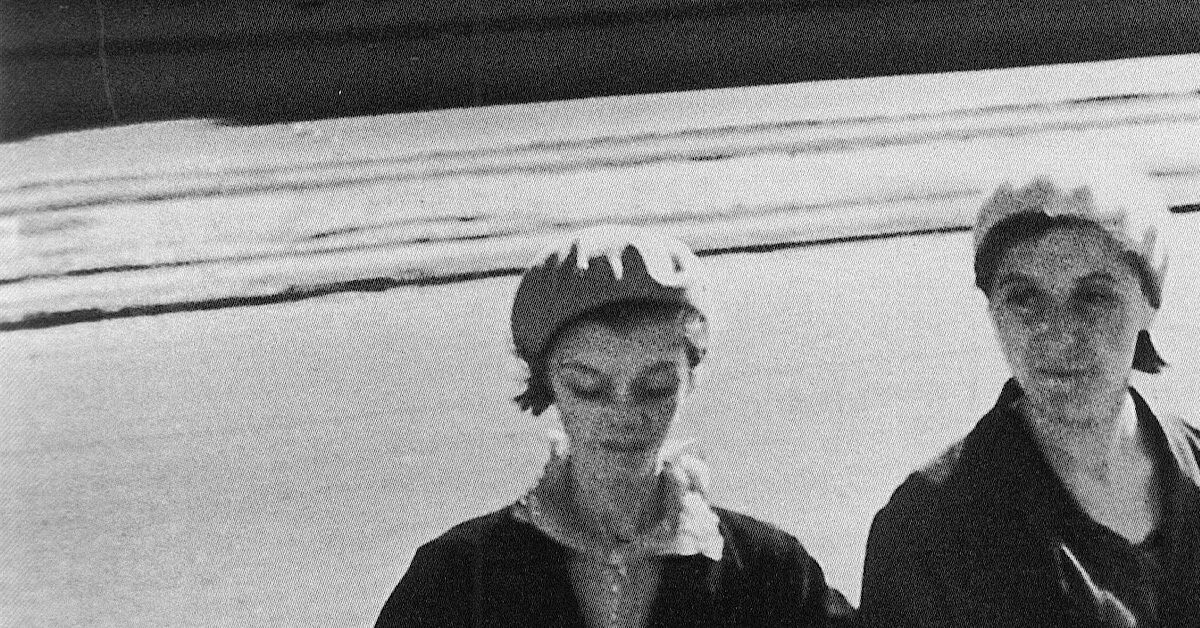Почему провалилась демилитаризация
Нет, я не о том, почему у Пыни провалилась демилитаризация Украины. Я о демилитаризации советской экономики. Перевод экономики с военных рельс на мирные называется конверсией. И она не просто провалилась, этот процесс обрушил вообще всю экономику, вызвав глубочайший социальный кризис, получивший в последствие название «Лихие девяностые». Вопрос о событиях прошлого века снова актуален. Сегодня, на четвертый год войны, экономика РФ милитаризована, и милитаризация ее продолжается. Да, путинская военная промышленность – это жалкое подобие советского ВПК периода холодной войны, но в случае гипотетического окончания бойни в украинских степях снова встанет тот же вопрос: что же нам делать с заводами, которые в три смены клепают тысячи БМП и тачают миллионы снарядов?Вот и один мой читатель задается этим вопросом:«Почему после ВОВ, при полной разрухе конверсию провели, а в перестройку даже толком не захотели... По идее с 1985-го вместо слова «Перестройка» нужно было внедрять слово «Конверсия». Без всяких ускорений, без рынка и либерализации это могло стабилизировать ситуацию и нарастить потребление, ибо в случае радикального сокращения военных расходов все болячки плановой экономики заливались бы высвобожденными деньгами, как сейчас, когда все проблемы заливаются нефтедолларами».Рассуждая формально-прямолинейно, он прав. В 80-е годы, когда советский военно-промышленный комплекс достиг пика своего роста, армия – максимума мощи, а холодная война – наивысшего накала, на оборону СССР тратил до 60-70% союзного бюджета и порядка 15% ВВП. Почему так много? Потому что высшим приоритетом было объявлено достижение военного паритета с США. Америка тратила на военные нужды порядка 23-33% федерального бюджета, что соответствовало 5,5-6,5% ВВП (сегодня – чуть больше 3% ВВП). Поскольку советская экономика была не столь мощной, как у заокеанского конкурента, доля военных расходов оказалась столь непропорционально велика.Да, военный паритет в целом (недостаток качества компенсировался количеством) был достигнут, но за счет чего? За счет сокращения фондов потребления. Если ты производишь 10 тысяч БТР для 5-миллионной армии вместо 200 тысяч «Жигулей», то личные авто будут в дефиците. Производство двух миллионов пар кирзовых сапог ежегодно съедало те ресурсы, что можно было бы направить на производство 500 тысяч кроссовок. И так по любой позиции.Совкодрочеры, конечно, возмутятся и обвинят меня в клевете: мол, Советский Союз тратил больше всего денег на науку, образование и а вовсе не на крылатые ракеты, что подтверждается бюджетной росписью. Например, в 1985 г. из бюджета в размере 386,5 млрд. руб. лишь 19, 1 миллиард (меньше 5%) был потрачен на военные нужды, а на просвещение и науку – 49,6 миллиардов. Если верить этим цифрам, то СССР являлся самой миролюбивой страной мира, но на деле военные расходы просто прятались в «мирные» статьи. Например, из 25 млрд. руб. расходов на науку 20 млрд. руб. составляло финансирование военных исследований. А 500 военных училищ, в которых готовили офицеров – это же тоже расходы на образование. Так что реальные цифры милитаризации приведены выше, а официальная отчетность – просто пыль в глаза.Но в 80-е годы конфронтация с Америкой сменилось дружбой и поцелуями взасос, холодная война закончилась, Варшавский договор бы распущен, Советская армия ушла из Афганистана, безвозмездная поддержка «социалистических» режимов в Африке, Азии и Латинской Америке свернута. Соответственно военные расходы можно было урезать раз в пять, тем более, что стратегические запасы вооружений, сделанные в расчете на третью мировую войну, можно было бы растянуть на десятилетия (собственно, этими запасами скрепыши и воюют в Украине сегодня). А высвободившиеся громадные ресурсы можно было направить на потребление – выпускать больше модной одежды телевизоров, мебели, автомашин, колбасы и книг – всего того, что было дефицитом в СССР.В чем проблема? А проблема в том, что в СССР не существовало отдельно военных предприятий и мирных, между которыми можно было бы перераспределить ресурсы. Тем более, невозможно перепрофилировать завод, производящий атомные подлодки на пошив джинсов. Гайдар, кстати, проповедовал ту же ересь – что корень бед советской экономики в гипермилитаризации и лечить болезнь надо сокращением военных расходов. Вот и давайте поглядим, что происходит, когда правительство тупо сокращает объем военных заказов чуть не до нуля, что сделали тупорылые реформаторы-гайдарыши.Возьмем завод, производящий авиадвигатели. Допустим даже, что 70% его продукции идет на постройку пассажирских лайнеров, и лишь 30% для производства истребителей и штурмовиков. Завод условно имеет общую выручку в 100 миллионов крепких советских рублей, из которых 10 миллионов – плановая прибыль. Если выручка сокращается на 30% – это не значит, что и прибыль опускается до 7 млн. руб. В реальности прибыли при таких потерях заказов не будет вообще, зато возникнут убытки в 5 млн. руб.В советской экономике это было не страшно, ведь существовало даже понятие плано

Нет, я не о том, почему у Пыни провалилась демилитаризация Украины. Я о демилитаризации советской экономики. Перевод экономики с военных рельс на мирные называется конверсией. И она не просто провалилась, этот процесс обрушил вообще всю экономику, вызвав глубочайший социальный кризис, получивший в последствие название «Лихие девяностые». Вопрос о событиях прошлого века снова актуален. Сегодня, на четвертый год войны, экономика РФ милитаризована, и милитаризация ее продолжается. Да, путинская военная промышленность – это жалкое подобие советского ВПК периода холодной войны, но в случае гипотетического окончания бойни в украинских степях снова встанет тот же вопрос: что же нам делать с заводами, которые в три смены клепают тысячи БМП и тачают миллионы снарядов?
Вот и один мой читатель задается этим вопросом:
«Почему после ВОВ, при полной разрухе конверсию провели, а в перестройку даже толком не захотели... По идее с 1985-го вместо слова «Перестройка» нужно было внедрять слово «Конверсия». Без всяких ускорений, без рынка и либерализации это могло стабилизировать ситуацию и нарастить потребление, ибо в случае радикального сокращения военных расходов все болячки плановой экономики заливались бы высвобожденными деньгами, как сейчас, когда все проблемы заливаются нефтедолларами».
Рассуждая формально-прямолинейно, он прав. В 80-е годы, когда советский военно-промышленный комплекс достиг пика своего роста, армия – максимума мощи, а холодная война – наивысшего накала, на оборону СССР тратил до 60-70% союзного бюджета и порядка 15% ВВП. Почему так много? Потому что высшим приоритетом было объявлено достижение военного паритета с США. Америка тратила на военные нужды порядка 23-33% федерального бюджета, что соответствовало 5,5-6,5% ВВП (сегодня – чуть больше 3% ВВП). Поскольку советская экономика была не столь мощной, как у заокеанского конкурента, доля военных расходов оказалась столь непропорционально велика.
Да, военный паритет в целом (недостаток качества компенсировался количеством) был достигнут, но за счет чего? За счет сокращения фондов потребления. Если ты производишь 10 тысяч БТР для 5-миллионной армии вместо 200 тысяч «Жигулей», то личные авто будут в дефиците. Производство двух миллионов пар кирзовых сапог ежегодно съедало те ресурсы, что можно было бы направить на производство 500 тысяч кроссовок. И так по любой позиции.
Совкодрочеры, конечно, возмутятся и обвинят меня в клевете: мол, Советский Союз тратил больше всего денег на науку, образование и а вовсе не на крылатые ракеты, что подтверждается бюджетной росписью. Например, в 1985 г. из бюджета в размере 386,5 млрд. руб. лишь 19, 1 миллиард (меньше 5%) был потрачен на военные нужды, а на просвещение и науку – 49,6 миллиардов. Если верить этим цифрам, то СССР являлся самой миролюбивой страной мира, но на деле военные расходы просто прятались в «мирные» статьи. Например, из 25 млрд. руб. расходов на науку 20 млрд. руб. составляло финансирование военных исследований. А 500 военных училищ, в которых готовили офицеров – это же тоже расходы на образование. Так что реальные цифры милитаризации приведены выше, а официальная отчетность – просто пыль в глаза.
Но в 80-е годы конфронтация с Америкой сменилось дружбой и поцелуями взасос, холодная война закончилась, Варшавский договор бы распущен, Советская армия ушла из Афганистана, безвозмездная поддержка «социалистических» режимов в Африке, Азии и Латинской Америке свернута. Соответственно военные расходы можно было урезать раз в пять, тем более, что стратегические запасы вооружений, сделанные в расчете на третью мировую войну, можно было бы растянуть на десятилетия (собственно, этими запасами скрепыши и воюют в Украине сегодня). А высвободившиеся громадные ресурсы можно было направить на потребление – выпускать больше модной одежды телевизоров, мебели, автомашин, колбасы и книг – всего того, что было дефицитом в СССР.
В чем проблема? А проблема в том, что в СССР не существовало отдельно военных предприятий и мирных, между которыми можно было бы перераспределить ресурсы. Тем более, невозможно перепрофилировать завод, производящий атомные подлодки на пошив джинсов. Гайдар, кстати, проповедовал ту же ересь – что корень бед советской экономики в гипермилитаризации и лечить болезнь надо сокращением военных расходов. Вот и давайте поглядим, что происходит, когда правительство тупо сокращает объем военных заказов чуть не до нуля, что сделали тупорылые реформаторы-гайдарыши.
Возьмем завод, производящий авиадвигатели. Допустим даже, что 70% его продукции идет на постройку пассажирских лайнеров, и лишь 30% для производства истребителей и штурмовиков. Завод условно имеет общую выручку в 100 миллионов крепких советских рублей, из которых 10 миллионов – плановая прибыль. Если выручка сокращается на 30% – это не значит, что и прибыль опускается до 7 млн. руб. В реальности прибыли при таких потерях заказов не будет вообще, зато возникнут убытки в 5 млн. руб.
В советской экономике это было не страшно, ведь существовало даже понятие плановой убыточности, что, кстати, являлось признаком высокого уровня развития экономики, построенной на межотраслевых балансах. Убытки, например, электроэнергетики перекрываются прибылями предприятий, потребляющих дешевое электричество. Поскольку все предприятия принадлежали государству, оно компенсировало 50 копеек убытков энергетиков за счет тех 10 рублей прибыли, что получали металлурги с каждой тонны алюминия. В итоге-то все равно профит.
Сегодня только в США существует индустрия, построенная на внутриотраслевых балансах – это сланцевая добыча нефти. Формально она убыточна и нефтяники вынуждены продавать нефть чуть дешевле себестоимости. Но нефтяники владеют акциями нефтеперерабатывающих заводов и получают по ним дивиденды, которые превышают их убытки от добычи сырья. НПЗ же являются прибыльными именно потому, что располагают источниками дешевого сырья. Возникает замкнутый круг, в котором все в выигрыше – и нефтедобытчики, и переработчики и население, которое имеет доходы (следовательно – потребляет топливо, произведенное на НПЗ), и государство, имеющее трудозанятое население и налоги.
Кстати, за разработку теории межотраслевых и внутриотраслевых балансов Нобелевскую премию по экономике получил Василий Леонтьев – американский ученый советского происхождения. И он на излете перестройки пытался консультировать советское правительство по вопросу проведения реформ народного хозяйства, но был вежливо послан на…уй. До власти дорвались кабинетные экономисты-монетаристы типа Гайдара и Чубайса, надрачивающие на невидимую руку рынка. Итак, давайте вернемся к нашему предприятию, которое одномоментно потеряло 30% сбыта и вместо 10 млн руб. прибыли получило 5 млн убытков.
Сможет ли оно работать в условиях дикого рынка? Нет! Оно просто остановится в тот момент, когда на счетах предприятия иссякнут оборотные средства, а это произойдет очень быстро в том числе и потому, что советские предприятия несли большую «социальную нагрузку», как это сейчас называют. Ведь в СССР не предприятия строились вокруг городов, а города вокруг предприятий, жилые массивы как бы добавлялись к инфраструктуре предприятий. Котельные, водопровод, электросети, детские сады, поликлиники, предприятия ЖКХ – все это часто было собственностью предприятий, а не муниципалитетов. И весь этот «балласт» планово сдержался за счет плановой прибыли. Теперь прибыли у завода не стало, но зарплату дворникам, энергетикам, врачам и воспитателям оно должно платить. И котельная должна работать вне зависимости от потребностей производства, иначе город просто замерзнет зимой.
А еще наш завод в условиях рынка должен расплачиваться со смежниками реальными деньгами, а не взаимозачетами с государством, как было раньше. И вот тут происходит настоящая катастрофа. ОТКУДА У ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕНЬГИ? Ведь получить прибыль моторный завод в условиях рынка сможет только тогда, когда продаст двигатели авиастроителям. Но со своими поставщиками он должен расплатиться еще до того, как произведет свою продукцию.
В рыночной экономике проблема решается путем привлечения кредитов в коммерческих банках. В теории все отлично, но на практике наше предприятие не только теряет всю прибыль и становится убыточным из-за потери военных заказов, но и вынуждено нести непроизводственные расходы, выплачивая проценты по кредитам, что увеличивает убыточность предприятия с 5% сразу до 10%.
В общем давайте констатируем неизбежное: предприятие развалится, это лишь вопрос времени. Оно сбросит на муниципалитет детские сады, ведомственную поликлинику, ведомственное жилье и котельную (при том, что у муниципалитета нет денег все это содержать), уволит половину рабочих, второй половине не будет месяцами платить зарплату, но в итоге все равно закроется, потому что в условиях рыночной стихии ни одно предприятие не может долго существовать, будучи убыточным. Закроется моторный завод – следом посыплются смежники. И авиастроительные предприятия еще сколько-то протянут, используя ранее полученные авиадвигатели, но тоже загнутся. И такой эффект домино будет наблюдаться по экономике в целом. Именно это и происходило в 90-е. Правительство, чтобы не допустить полного коллапса, вызванного кризисом неплатежей, начинает раздавать предприятиям деньги для выплаты зарплат, включив на полную мощность печатный станок – итогом становится гиперинфляция.
Вот так грубое изъятие из экономики военных заказов обрушивает всю промышленность, сокращает налоговые поступления в бюджет, взвинчивает безработицу, а сокращение доходов населения бьет по потреблению и сфере услуг. Экономика – это единый и неразрывный комплекс, невозможно отрезать от него 30% ресурсов и добиться тем самым роста производства и потребительского изобилия. Результат будет строго обратным.
Значит ли это, что конверсия невозможна? Конечно, нет. Но осуществляется она по следующей схеме: сначала делаются инвестиции в мирное производство, после чего туда перетекает значительная часть рабочей силы с военных производств, и лишь после этого можно решать вопрос с перепрофилированием военных предприятий, что тоже требует колоссальных инвестиций.
Конверсия – это не источник халявных денег, а потребитель громадных капиталовложений, которые дадут отдачу через долгие годы. Теперь представьте, с какими проблемами столкнутся путинские говно-экономисты по завершении войны в Украине и необходимостью как-то возвращаться на мирные рельсы. Не, эти придурки скорее новую войну начнут, чем попытаются повторить лихие 90-е в гораздо более плохих условиях (санкции, закрытый характер экономики).







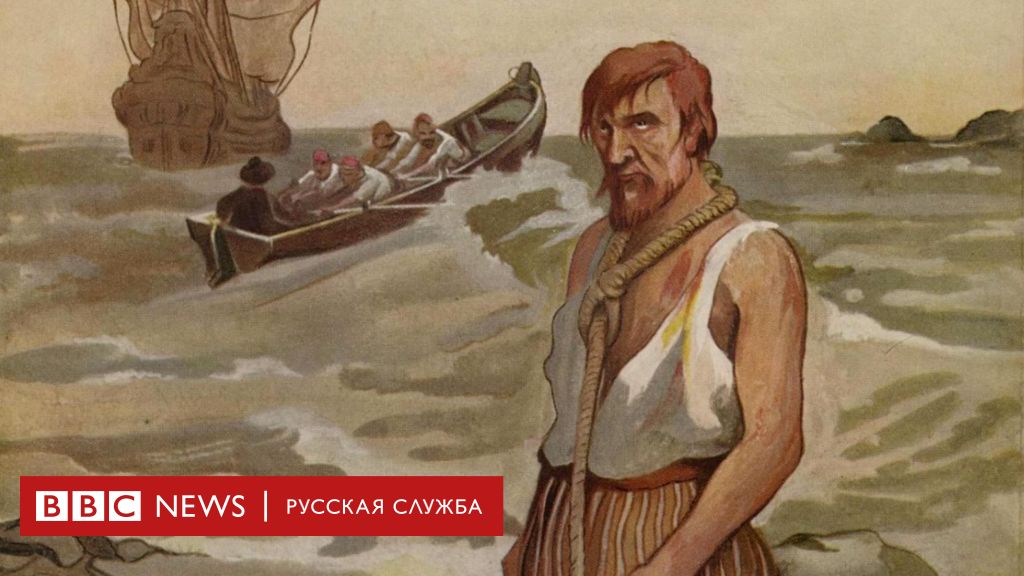


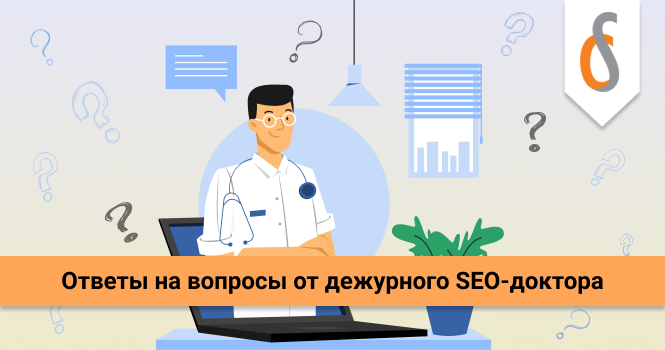




![С миру по нитке (Зарубежье) [30.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2474932,15/125x125xpa/photo.png)




![С миру по нитке [30.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2477203,15/125x125xpa/photo.png)