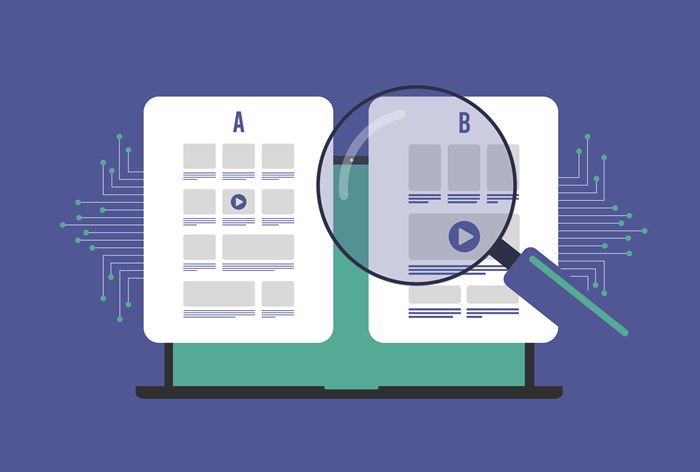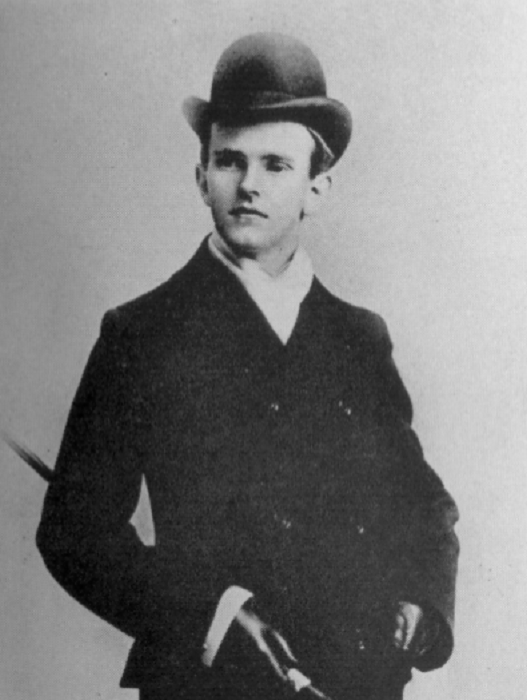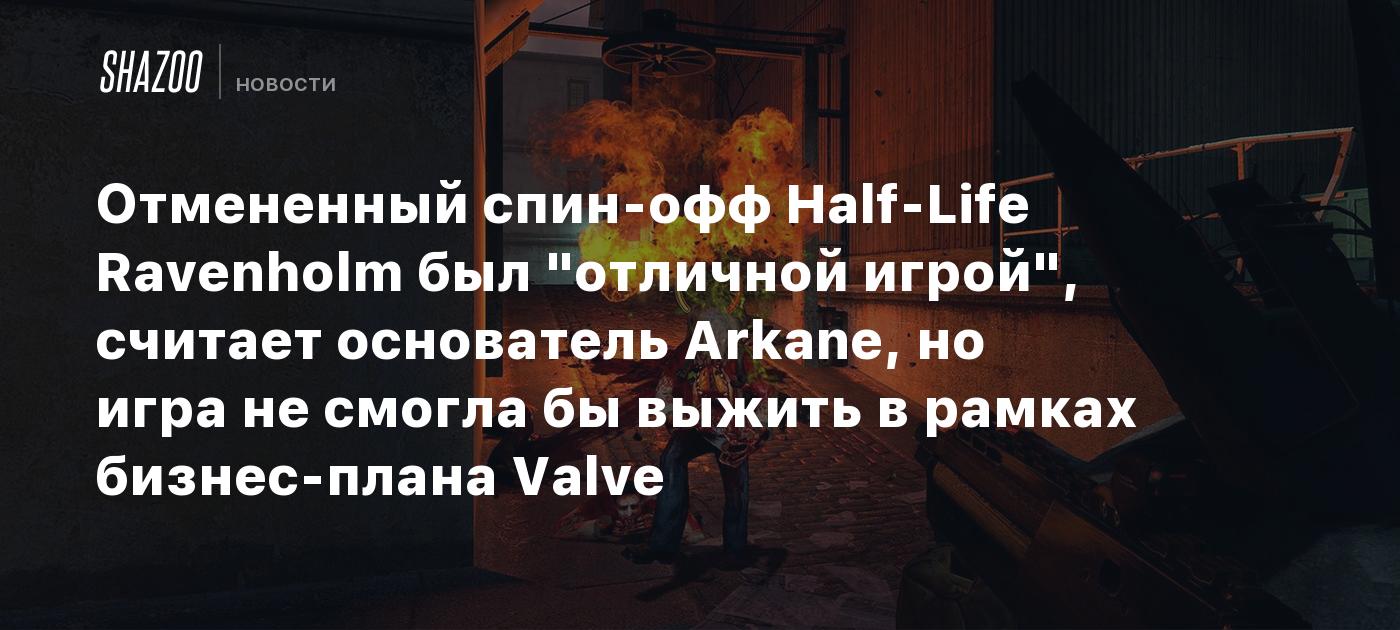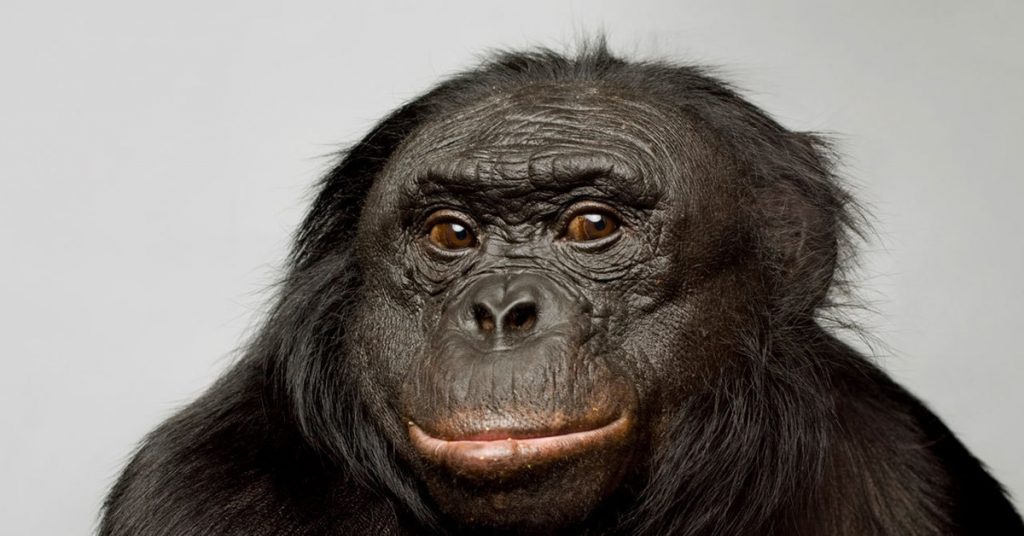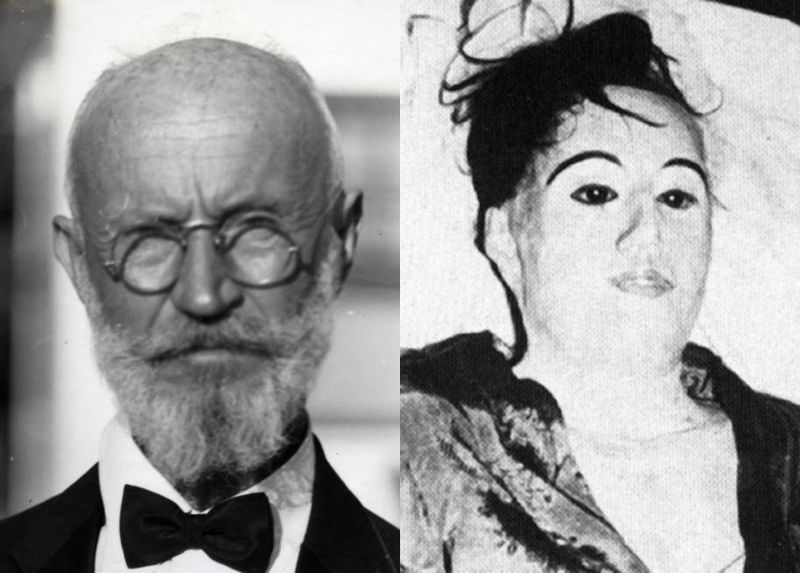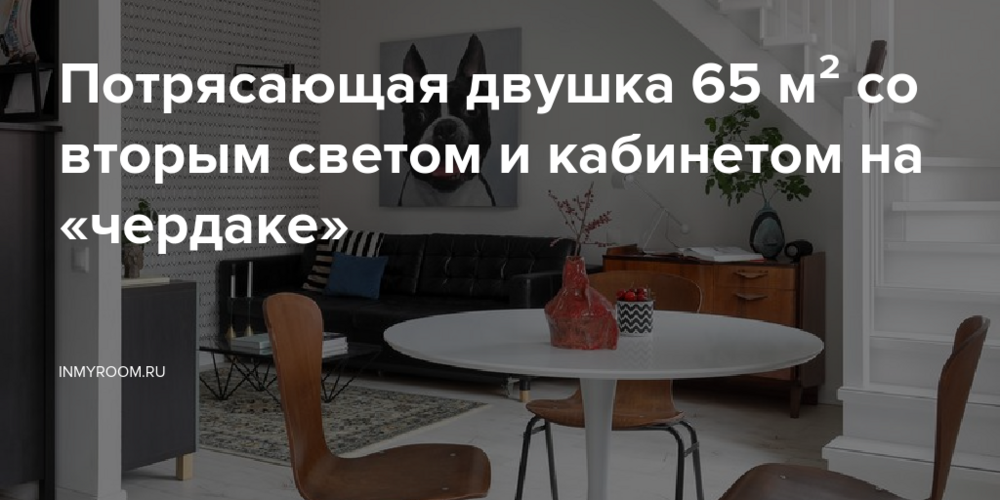Сделка – не выход. Об отличиях бизнеса от политики
Попытка свести построение «устойчивого мира» к сумме сделок хорошо ложится в устоявшиеся деловые практики. В такой логике цель должна быть измерима, раскладываться на задачи, меры и мероприятия по её достижению, ресурсное обеспечение каждого шага желательно оцифровать. Но даже при соблюдении всех этих условий управление международной безопасностью не складывается из суммы конкретных договорённостей, то есть конечных […]

Попытка свести построение «устойчивого мира» к сумме сделок хорошо ложится в устоявшиеся деловые практики. В такой логике цель должна быть измерима, раскладываться на задачи, меры и мероприятия по её достижению, ресурсное обеспечение каждого шага желательно оцифровать. Но даже при соблюдении всех этих условий управление международной безопасностью не складывается из суммы конкретных договорённостей, то есть конечных проектов.
Безопасность – это не проект, а процесс – бесконечный и постоянно меняющийся. Соответственно, сделка способна создать условия, но только текущее управление процессом определит результат.
На фоне дипломатических манёвров выбор между продолжением военных действий и устойчивым миром выглядит сейчас упрощением, а второе – попросту утопией. В обозримой перспективе оптимальный из реальных сценариев – переход от вооружённого (горячего) конфликта к невооружённому (холодному). Страховочный механизм – новая схема разрешения кризисных ситуаций, которую предстоит выработать в ходе переговоров. Это условие, используя математические понятия, необходимое, но недостаточное. И тем более беспочвенны надежды только на экономику и политическую волю.
Переговоры как инструмент
Впервые за три года всерьёз заработал дипломатический инструментарий, и за его применением внимательно следят на разных континентах. Анализ дипломатических формулировок и процедурных ритуалов – занятие крайне увлекательное, но любые переговоры – средство, а не цель внешнеполитического процесса.
Нет такого ресурса политической воли и таких гарантий безопасности, которые были бы способны полностью купировать риски срыва договорённостей о прекращении огня или диверсиях не огневого характера со стороны непосредственного противника. Дело не в личности конкретного главы украинского государства, а в структуре власти там и влиянии внешних игроков. Поэтому переговоры призваны решить несколько задач: повысить уровень безопасности, прояснить ожидания и (что крайне важно именно на нынешнем этапе) разработать механизм деконфликтинга, преодоления кризисных ситуаций на годы и десятилетия. Вероятно, последнее и может стать главным достижением дипломатических усилий.
Дано в решаемой задаче следующее: тысяча километров линии боевого соприкосновения на равнине, тысячи единиц достаточно стихийно циркулирующего оружия, отработанные практики диверсий с помощью дронов и кибероружия. Требуется доказать: новые подходы к деконфликтингу возможны. Решение задачи – предмет «мозгового штурма» дипломатов, военных и специалистов по современным технологиям наблюдения и защищённого доступа к информации. Только силы слова (политических гарантий безопасности), как и силы оружия (физической возможности купировать все угрозы безопасности в зоне конфликта) не хватит.
Никакие гарантии безопасности в современных условиях не послужат эффективным предохранителем от точечных или масштабных эскалаций и провокаций.


Поэтому консультации и переговоры рассматриваются как инструмент создания лучших условий для ведения внешней политики, а не как повод для её смягчения или пересмотра.
Цель переговоров
Итак, если определять осязаемые цели переговоров, более уместной формулировкой представляется не переход из состояния войны в состояние мира, тем более устойчивого. А шанс на трансформацию вооружённого конфликта в невооружённый.
Игра в слова может показаться литературным занудством, но чёткость терминологии имеет прикладные эффекты для внешней политики. Само по себе состояние конфликта не является проблемой для международных отношений, на протяжении всей истории исключением скорее остаются фазы сотрудничества, они требуют от стран куда больших усилий. Состояние конфликта не блокирует возможности взаимодействия в отдельных сферах, точечные сделки и даже их серии. Что делает сотрудничество невозможным, так это состояние войны, что его значительно ограничивает – это состояние вооружённого конфликта. Хотя без этикетки «война» стороны, как правило, не разрывают торговые и гуманитарные связи, какая грозная риторика бы ни звучала.
Текущая динамика позволяет ожидать расщепления единого конфликта последних лет на пять линий: противостояние России с Украиной, Великобританией, континентальной Европой, азиатскими союзниками США и, собственно, Соединёнными Штатами. В каждом из сюжетов потенциал невоенного инструментария очень разный. Он остаётся минимальным на украинском направлении (по крайней мере, в ближайшие годы) и постепенно увеличивается по мере повышения вероятности стратегического диалога с Вашингтоном. Базы и мотивации для содержательных стратегических диалогов с другими недружественными странами пока не просматривается.
Экономическая карта
Несмотря на возвращение дискуссий о снятии санкций, возможности новых сделок, о совместных проектах между США и Россией, экономика сегодня едва ли является фактором, способным изменить правила игры и баланс сил игроков. Но экономика, в особенности с учётом бэкграунда Дональда Трампа, – язык «укрепления доверия». С одной стороны, трудно укреплять то, чего нет. С другой, любые виды взаимодействия, повторяющиеся регулярно и с предсказуемым результатом, возникновению доверия между странами всё-таки способствуют.
Пределы экономического сближения осязаемы. Определённые санкционные послабления позволят извлечь тактическую выгоду, но России странно надеяться и тем более делать сколь-нибудь стратегическую ставку на системную ликвидацию санкций. И в лучшие-то времена экономическое партнёрство России и США оставалось крайне ограниченным и не достигало даже 40 млрд долларов (пик – 38,2 млрд долларов в 2013 году). Его перезапуск ничего не изменит ни для Соединённых Штатов, ни для Российской Федерации в части их международной экономической конкурентоспособности. Для сравнения, товарооборот России с Китаем за 2024 г. больше нашего исторического пика с американцами в 6,5 раз и составляет 245 млрд долларов. По многим позициям Россия и США скорее естественные конкуренты: экспорт нефти и газа, отдельных минералов, ядерных технологий и оборудования для них, продовольствия, продукции ВПК. Что не отменяет возможности отдельных выгодных сделок, когда это нужно и возможно.


Переводя на язык Дональда Трампа, если бы он совершил те же действия в конце 1970-х гг. при осуществлении своего первого громкого проекта, реставрации отеля Commodore на Манхэттене, но доверил бы управление не сети Hyatt, а управляющему похуже, то он мог бы извлечь девелоперскую прибыль, но не многолетние доходы от успешно работающего отеля. К сожалению, в международной политике нет проверенных управляющих безопасностью.
Поэтому снижение планки ожиданий от нынешнего военно-дипломатического этапа конфликта, возможно, позволит заняться созданием условий для лучшего управления безопасностью в Евразии и на планете. Без новых механизмов управления безопасностью ни одна сделка не обеспечит мир. И лабораторией для новых решений как раз имеет шансы стать конфликт России и Запада на Украине.