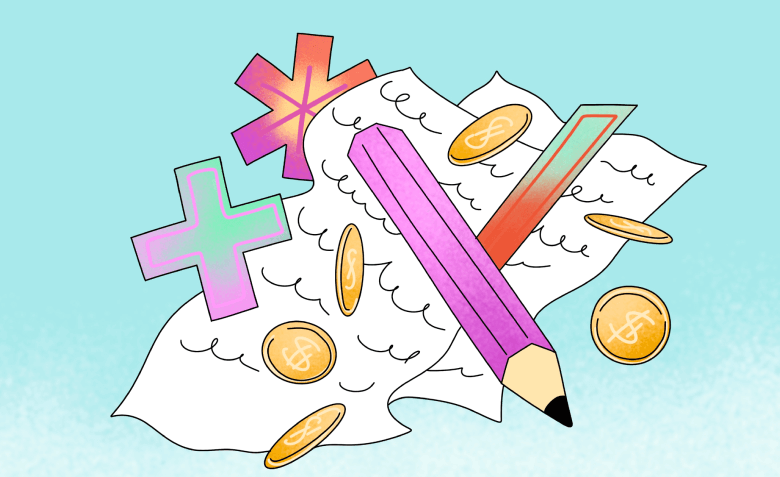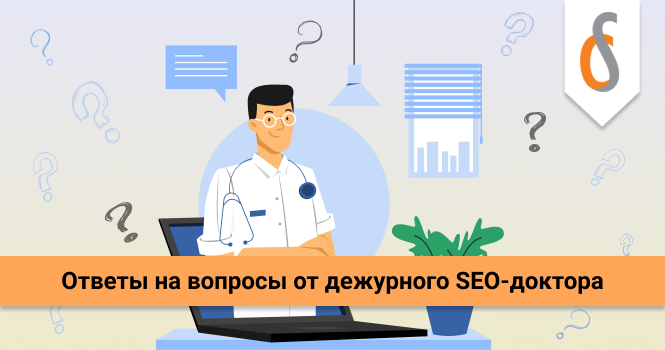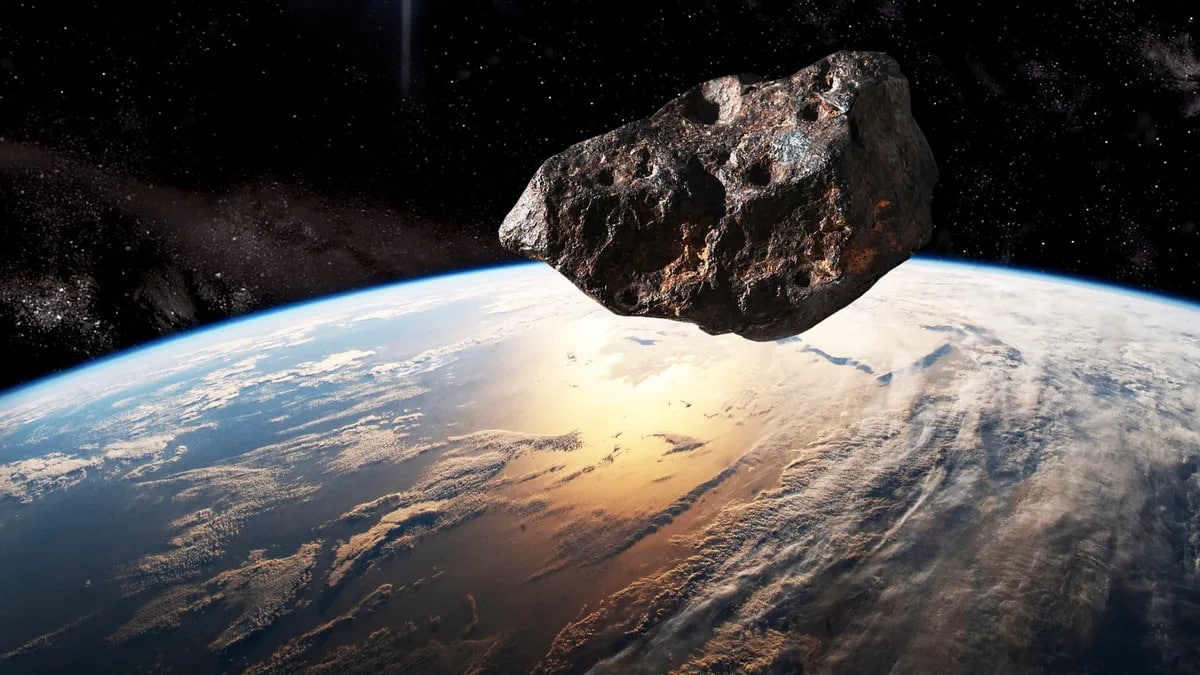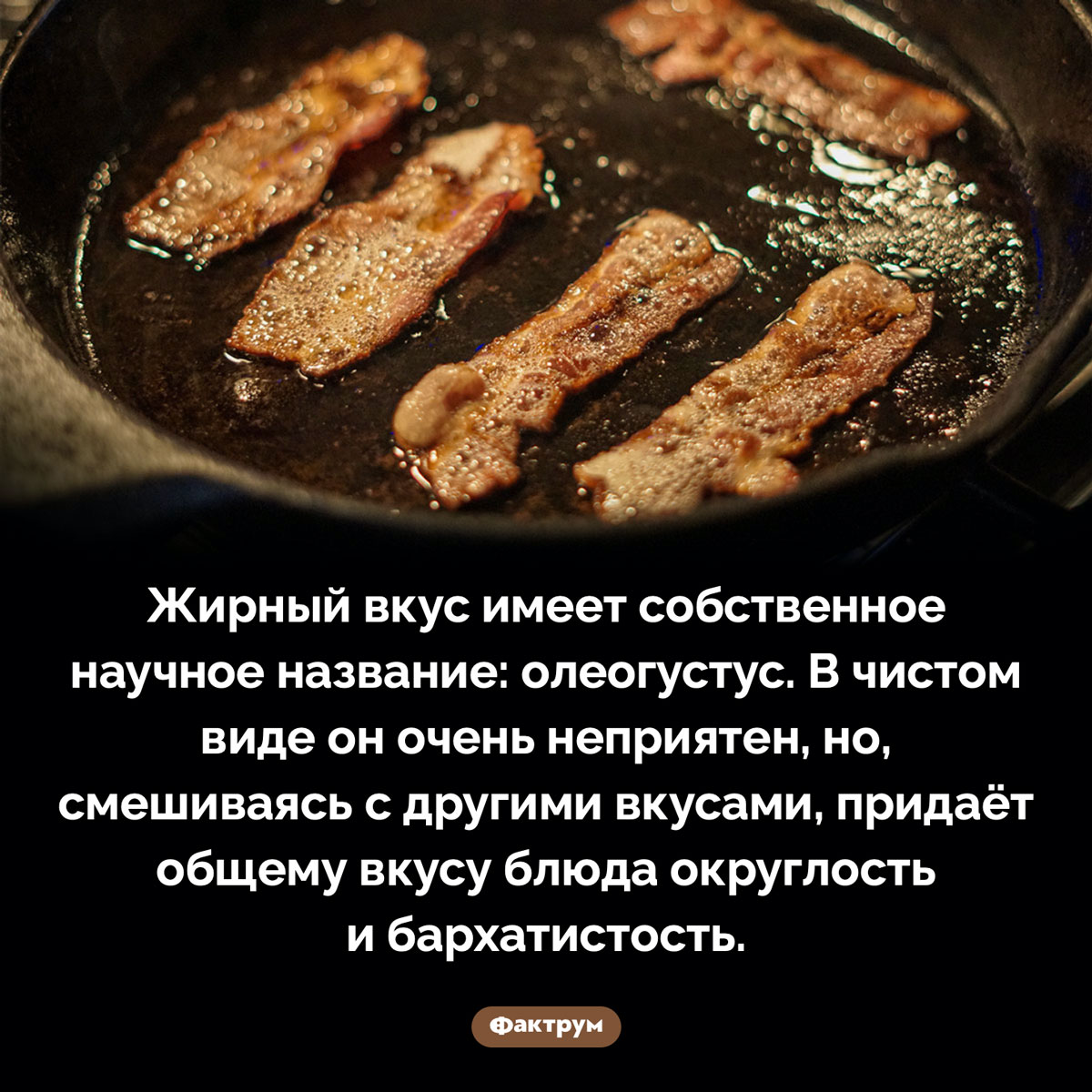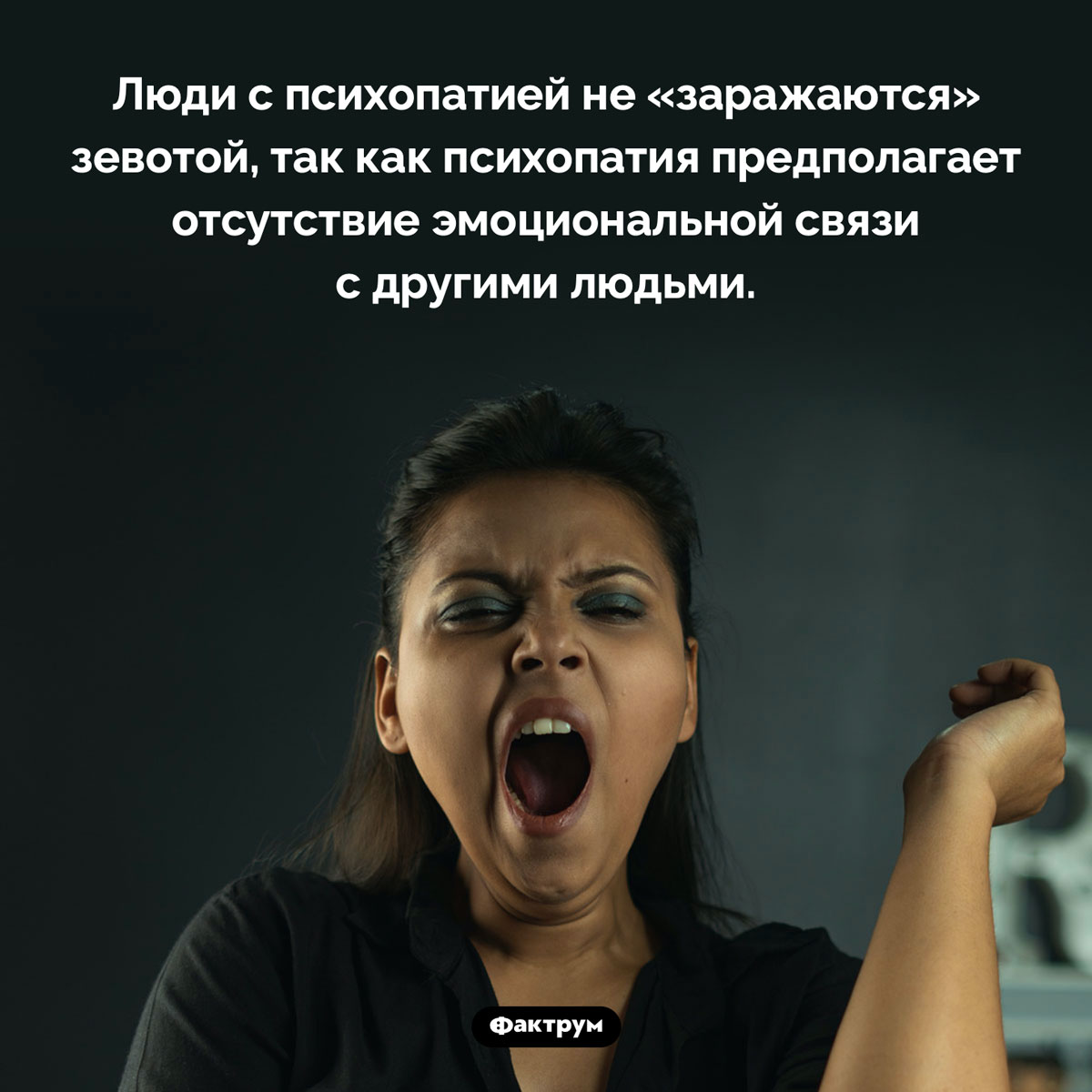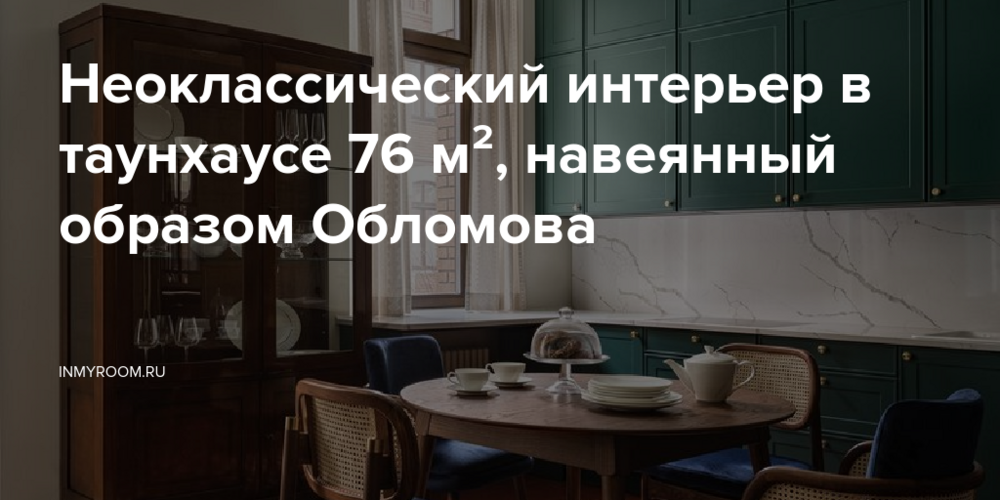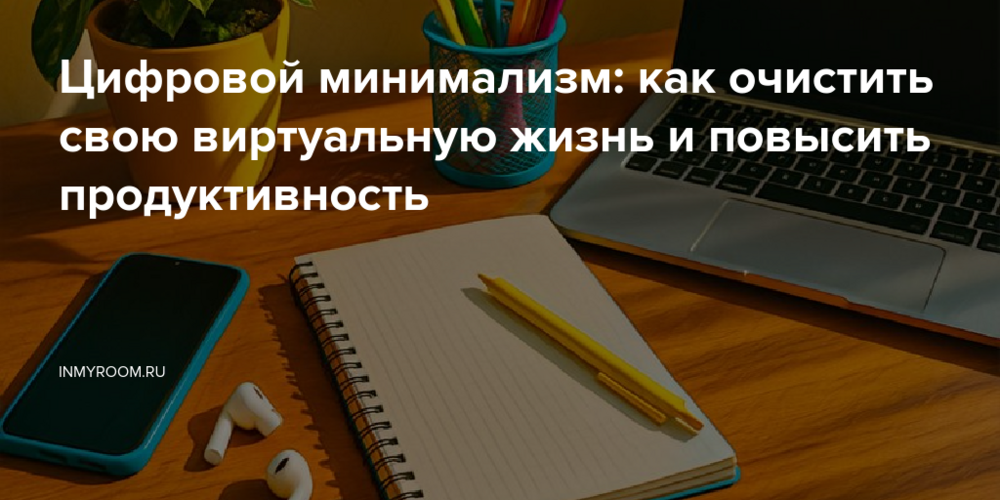Свитки мёртвого моря: есть все основания утверждать - мы находимся на пороге крупнейших открытий
Загадка кумранских свитков не разгадана, сотни исторических документов, найденных 14 лет назад на берегу Мертвого моря, лежат без движения в сейфах музеев. По свидетельству видного английского ученого, участвовавшего в археологических экспедициях в Иудейской пустыне, заговор молчания вокруг обнаруженных там рукописей дохристианской эпохи организован церковными кругами, которые боятся, что достоянием гласности станут исторические факты, ниспровергающие догматы веры и происхождения христианства.«Харперс мэгэзин», Нью-Йорк. Джон М. АллегроКогда двадцать лет назад козопас-араб нашел свитки Мертвого моря, он привел в движение поток событий, способных изменить привычное для нас лицо история. Только теперь начинаем мы понимать все значение найденных документов. Почему же там много времени потребовалось для этого? Причиной может быть и случайность обнаружения первых свитков, и то, как были найдены последующие рукописи, и разбросанность находок в чрезвычайно большом районе археологических раскопок.Но куда более важным представляется то, что учёные, лучше других подготовленные к работе над материалами и расшифровке текстов, проявили в общем-то закономерное, но тем не менее поразительное нежелание пролить свет на существо вопроса. При самом беглом взгляде на ход исследований не оставляет мысль о том, что эти ученые предпочли воздержаться от открытий, и есть много оснований полагать, что сделали они это, чтобы не нарушить, оставить в целости основные положения христианского вероучения. Ибо открытия такого рода могут пошатнуть веру не только теологов, но и простых смертных. Под вопрос ставилось происхождение и оригинальность христианской религии.Первая находкаПервая находка была случайной. Мухаммед, козопас-бедуин, разыскивая отбившуюся от стада козу, обнаружил ряды пещер в скалах, обрамляющих северо-западный, иорданский берег Мертвого моря. В одной из пещер он нашел высокие широкогорлые кувшины. В кувшинах лежали пергаментные свитки, завернутые в дурно пахнущие тряпки из льняного полотна, - первые свитки Мертвого моря. Всего их было семь, и теперь ни за какие деньги на свете их невозможно купить. Среди них есть рукописные списки глав Ветхого Завета, которым на тысячу лет больше, чем самым старым текстам, до сих пор имевшимся в нашем распоряжении.Мухаммед выручил 60 долларов, продав рукописи сапожнику из Вифлеема. Четыре свитка контрабандой вывезли в Соединённые Штаты, где они были проданы за четверть миллиона долларов. Три свитка очутились в Еврейском университете Иерусалима, где сейчас хранятся уже семь свитков, привлекающие тысячи посетителей в построенный там «Храм Библии». Мухаммед и его друзья поняли, какую ценность представляет каждый исписанный знаками клочок, затерявшийся в пыльном песке, и всерьез занялись поисками рукописей. За следующие девять лет неподалеку от пещеры с первой находкой были обнаружены ещё десять пещер, содержащих различные документы.На обрывках пергaмента и папируса, часто фрагментарных и разрозненных, было найдено свыше четырехсот различных документов, причем треть из них составляли тексты Ветхого Завета. Эти свитки остались в Иордании. С 1952 года бедуины расширили район поисков, и сделанные ими открытия позволяют утверждать, что всё западное побережье побережье Мертвого моря, вполне вероятно, представляет собой хранилище древнейших рукописей. Когда слухи о свитках впервые достигли иорданской столицы Амман - случилось это полтора года спустя после счастливой находки Мухаммеда, власти столкнулись с трудноразрешимой проблемой: как найти пещеру? Вифлеемский сапожник предпочитал отсиживаться в своей лавке и помадкивать до поры до времени.Вади КумранКонечно же, некогда сотни рукописей хранились здесь. Не единичное захоронение со случайными обрывками документов, а хранилище вышедших из употребления книг из библиотеки какой-то секты. Наверняка где-то здесь же, поблизости, в стенах пещер имеются ниши, где захоронено многое из того, что некогда принадлежало владельцам библиотеки. В миле к югу от пещеры лежат развалины. Они расположены на глинистом плоскогорье, составляющем важную сторону высохшего русла реки - вади Кумран. Место много раз видели проезжие и прохожие, даже описали его, но никаких археологических работ здесь не производилось.В 1949 году в вади Кумран начались раскопки, которые велись пять сезонов подряд. В результате было откопано не то поселение примитивной постройки, не то монастырь. Поселение, по-видимому, возникло на месте сторожевого поста, выстроенного за 100 лет до н. э., и было разрушено во время Великой иудейской войны против Рима в 66-73 годах н. э.1952 год принес множество находок. В 11 милях к югу от поселения на земле своего племени бедуины обнаружила несколько больших пещер в месте, называемом Мурабаат. В них нашли не только обрывки документов церковного и мирского содержания времен Ветхого Завета, записанных на пергаменте и папирусе, но и великолепно сохранившиеся образцы деревянной утвари возрастом в 6 тысяч лет. Два иорданских чиновника неотступно следовали по пятам н

Загадка кумранских свитков не разгадана, сотни исторических документов, найденных 14 лет назад на берегу Мертвого моря, лежат без движения в сейфах музеев. По свидетельству видного английского ученого, участвовавшего в археологических экспедициях в Иудейской пустыне, заговор молчания вокруг обнаруженных там рукописей дохристианской эпохи организован церковными кругами, которые боятся, что достоянием гласности станут исторические факты, ниспровергающие догматы веры и происхождения христианства.
«Харперс мэгэзин», Нью-Йорк. Джон М. Аллегро
Когда двадцать лет назад козопас-араб нашел свитки Мертвого моря, он привел в движение поток событий, способных изменить привычное для нас лицо история. Только теперь начинаем мы понимать все значение найденных документов. Почему же там много времени потребовалось для этого? Причиной может быть и случайность обнаружения первых свитков, и то, как были найдены последующие рукописи, и разбросанность находок в чрезвычайно большом районе археологических раскопок.
Но куда более важным представляется то, что учёные, лучше других подготовленные к работе над материалами и расшифровке текстов, проявили в общем-то закономерное, но тем не менее поразительное нежелание пролить свет на существо вопроса. При самом беглом взгляде на ход исследований не оставляет мысль о том, что эти ученые предпочли воздержаться от открытий, и есть много оснований полагать, что сделали они это, чтобы не нарушить, оставить в целости основные положения христианского вероучения. Ибо открытия такого рода могут пошатнуть веру не только теологов, но и простых смертных. Под вопрос ставилось происхождение и оригинальность христианской религии.
Первая находка
Первая находка была случайной. Мухаммед, козопас-бедуин, разыскивая отбившуюся от стада козу, обнаружил ряды пещер в скалах, обрамляющих северо-западный, иорданский берег Мертвого моря. В одной из пещер он нашел высокие широкогорлые кувшины. В кувшинах лежали пергаментные свитки, завернутые в дурно пахнущие тряпки из льняного полотна, - первые свитки Мертвого моря. Всего их было семь, и теперь ни за какие деньги на свете их невозможно купить. Среди них есть рукописные списки глав Ветхого Завета, которым на тысячу лет больше, чем самым старым текстам, до сих пор имевшимся в нашем распоряжении.
Мухаммед выручил 60 долларов, продав рукописи сапожнику из Вифлеема. Четыре свитка контрабандой вывезли в Соединённые Штаты, где они были проданы за четверть миллиона долларов. Три свитка очутились в Еврейском университете Иерусалима, где сейчас хранятся уже семь свитков, привлекающие тысячи посетителей в построенный там «Храм Библии». Мухаммед и его друзья поняли, какую ценность представляет каждый исписанный знаками клочок, затерявшийся в пыльном песке, и всерьез занялись поисками рукописей. За следующие девять лет неподалеку от пещеры с первой находкой были обнаружены ещё десять пещер, содержащих различные документы.
На обрывках пергaмента и папируса, часто фрагментарных и разрозненных, было найдено свыше четырехсот различных документов, причем треть из них составляли тексты Ветхого Завета. Эти свитки остались в Иордании. С 1952 года бедуины расширили район поисков, и сделанные ими открытия позволяют утверждать, что всё западное побережье побережье Мертвого моря, вполне вероятно, представляет собой хранилище древнейших рукописей. Когда слухи о свитках впервые достигли иорданской столицы Амман - случилось это полтора года спустя после счастливой находки Мухаммеда, власти столкнулись с трудноразрешимой проблемой: как найти пещеру? Вифлеемский сапожник предпочитал отсиживаться в своей лавке и помадкивать до поры до времени.
Вади Кумран
Конечно же, некогда сотни рукописей хранились здесь. Не единичное захоронение со случайными обрывками документов, а хранилище вышедших из употребления книг из библиотеки какой-то секты. Наверняка где-то здесь же, поблизости, в стенах пещер имеются ниши, где захоронено многое из того, что некогда принадлежало владельцам библиотеки. В миле к югу от пещеры лежат развалины. Они расположены на глинистом плоскогорье, составляющем важную сторону высохшего русла реки - вади Кумран. Место много раз видели проезжие и прохожие, даже описали его, но никаких археологических работ здесь не производилось.
В 1949 году в вади Кумран начались раскопки, которые велись пять сезонов подряд. В результате было откопано не то поселение примитивной постройки, не то монастырь. Поселение, по-видимому, возникло на месте сторожевого поста, выстроенного за 100 лет до н. э., и было разрушено во время Великой иудейской войны против Рима в 66-73 годах н. э.
1952 год принес множество находок. В 11 милях к югу от поселения на земле своего племени бедуины обнаружила несколько больших пещер в месте, называемом Мурабаат. В них нашли не только обрывки документов церковного и мирского содержания времен Ветхого Завета, записанных на пергаменте и папирусе, но и великолепно сохранившиеся образцы деревянной утвари возрастом в 6 тысяч лет. Два иорданских чиновника неотступно следовали по пятам не внушавших им доверия искателей кладов и тщательно отмечали расположение пещер. Археологи, однако, не возобновляли работ ещё три месяца. Предстояло выкупить драгоценные рукописи и утварь у людей, их нашедших, и подготовить изучению и хранению в Иордании.
Самый сильный удар по бюджету Палестинского археологического музея был нанесен, когда арабские искатели кладов обнаружили, пожалуй, самую большую сокровищницу. Это случилось в районе первой находки, на краю вади Кумран, на расстоянии брошенного камня от монастыря, который археологи раскапывали несколько раньше. Искатели свитков пошли по следу, который указал им один из старейшин их племени их племени, помнивший место, где подстрелил куропатку много лет назад. Он выстрелил в куропатку, видимо, только ранил ее, и птица, прыгая с камня на камень, перебежала гребень и скрылась в дыре.
С большим трудом охотник, преследуя добычу, раскопал дыру и оказался в подземелье, вырубленном в мягком камне. Он взял старинный глиняный светильник, который стоял в нише, но дальше осматривать подземелье не стал. Просто поднял птицу с земли и выбрался наружу. Следуя указаниям старейшины, его соплеменники быстро нашли вход в пещеру. Археологи да и их помощники из местного населения, должно быть, множество раз видели это отверстие, но не дали себе труда заглянуть внутрь. Ошибка обошлась дорого. Чтобы выкупить десятки тысяч кусочков рукописей, которые бедуины нашли в «Пещере раненой куропатки», потребовалось свыше 90 тысяч долларов.
Но - что ещё хуже - деньги не удалось сразу достать. Предшествующие на ходки истощили фонды Палестинского музея и Французской библейской школы и Иерусалиме, руководитель которой, преподобный Ролан де Во, заведовал отделом свитков при иорданском Департаменте по делам древностей. После долгих переговоров иорданское правительство выделило для этой цели 15 тысяч динаров (около 40 тысяч долларов). Недостающие деньги удалось получить от различных научных и прочих учреждений разных стран, да и то лишь после того, как им было обещано передать рукописи на выданную сумму.
Рукописи продавались по 1,5 доллара за квадратный сантиметр. За цельные куски платили больше из опасения, что искатели рукописей начнут рвать их на мелкие части в надежде увеличить гонорар. Для редактирования найденного материала была создана международная бригада ученых в составе девяти человек. Пятеро были священники римско-католической церкви, трое представители белого духовенства и только один мирянин. Им оказался я. Главным редактором, который практически не принимал участия в работе над последней партией рукописей, стал преподобный де Во, монах-доминиканец и археолог из Французской библейской школы в Иерусалиме.
Он поставил за правило, чтобы мы ограничили наши публикации одним документом в год. Кроме того, было решено, что все материалы увидят свет в серии публикаций, которые будут появляться под эгидой иорданского Департамента по делам древностей, Французской библейской школы в Палестинского археологического музея. Серия должна была получить название «Находки в Иудейской пустыне Иордании». За четырнадцать лет, что прошли после обнаружения «Пещеры раненой куропатки» не было издано ни одного тома из найденных там материалов. Если бы не ничтожно малое число ранее сделанных публикаций, ученый мир и сейчас почти ничего не знал бы о содержании более чем 400 документов, которые мы с таким трудом собрали из кусочков и обрывков.
В течение недавних лет некоторые из нас, пытаясь стимулировать местные археологические изыскания, совершили ряд экспедиций в район Иудейской пустыни в поисках новых свитков. Нам оказал некоторую помощь Департамент по делам древностей, который с 1956 года находится в ведения иорданских чиновников. Однако эти экспедиции финансировались главным образом за счет телевизионных компаний и газет, а в последнее время мы получили несколько великодушных субсидий от частных лиц. Деньги сейчас практически на исходе. Экспедиции были слишком непродолжительны, чтобы привести плоды, но и они оказались полезными в том отношении, что теперь мы по крайней мере знаем, где следует, а где бесполезно искать рукописи.
Саботаж
Но не только осязаемые ограничения в нехватки времени и денег стояли препятствием на нашем пути. Сравнительно недавно двое видных американских ученых, У. Олбрайт и Дэвид Фридман, имели случай жаловаться на «заведомый саботаж со стороны церковников в отношении рукописей Мёртвого моря. В свитках, - продолжают ученые, мы впервые получили возможность столкнуться со свидетельствами иудейской истории Нового Завета. До этого мы целиком зависели от опосредствованных литературных источников в виде апокрифов и псевдоапокрифов, а частично от раввинской литературы, которые и сожалению, на меньшей мере на два века моложе дел и слов, приписываемых Христу и его апостолам. Благодаря свиткам Мертвого моря мы впервые получали в руки свидетельства, способные пролить принципиально новый свет на все имевшиеся в нашем распоряжении списки Нового Завета».
Несколько ранее профессор Олбрайт так отозвался о новых сведениях, содержащихся в свитках и касающихся вероучения и религиозных обычаев иудейских сектантов: «Она революционизируют наш подход и истокам и происхождению христианства». Что же произошло? Когда была вставлена палка в колесо? Кому пришлась не по вкусу «революционизация подхода»? Читатель начал впервые нетерпеливо рассматривать свитки в поисках новых находок, рассказывающих о происхождении христианства, глазами Эдмунда Уилсона, который опубликовал серию блистательных статей в журнале «Нью-Йоркер», а позднее книгу «Свитки Мертвого моря».
Сочетая смелость учёного с журналистской широтой взгляда, Уилсон представил на суд общественности не только возможности, таящиеся и свитках, для подрыва устоявшихся догм христианства об уникальности вероучения, но и дал некоторое представление об игре, ведущейся вокpyг свитков. Он прямо и честно сказал читателю, что далеко не все результаты, полученные от изучения свитков, пришлись по вкусу определенным религиозным кругам и что христианские ученые предпочитают уклоняться от выводов, на которые наталкивает изучение этих документов.
Я не думаю, что Уилсон зашел слишком далеко в своих утверждениях, однако в месте с тем должен заметить, что нежелание многих ученых христианского толка работать над рукописями объяснялось не только их страхом подорвать основы вероучения. Во многом здесь повинно обыкновенное невежество. Люди попросту не знали, как приступить к изучению древних документов на мертвых семитских языках - древнееврейском и арамейском. Как правило, ученые-теологи слишком много лет полагались в своих работах над Ветхим Заветом на aнглийские тексты и английские же комментарии.
В теологии степень можно получить, со всем или почти совсем не зная древнееврейского языка. Поэтому, внезапно столкнувшись с вопросами своей паствы о семитском происхождении христианства, подавляющее большинство служителей церкви принялось изо всей мочи ругать ученых, обвиняя их в недостатке веры, или же отправилось в библиотеки своих семинарий, надеясь хоть там найти ответ на мучивший их вопрос: как объяснить пастве, что христианство не так уникально и богоданно, как об этом принято говорить? Шло время формировались суждения.
«Статьи, трактаты и целые книги посвящались волнующему всех вопросу. Мало кому давалось сказать что-либо оригинальное о свитках, но в заключительной главе все предлагали жаждущему утешения читателю что-то утешительное. В переведенных и опубликованных свитках содержалось немало сведений, способных пролить свет на период, предшествующий возникновению христианства и появлению евангелия, и не было ничего подрывающего основы веры. Однако в свитках можно было обнаружить религиозные рассуждения, поразительно на поминающие по стилю послания Иисуса.
Тем не менее царство божие, обещанное Иисусом, не имело ничего общего с политическим устройством, в которому стремилась люди, ожившие на страницах древних рукописей.
Более того, их предводитель, которого называли Учитель Правды, мученически погибший, как многие полагают, или даже распятый, и который должен был вернуться как мессия или Христос, был совершенно иным человеком, нежели Инсус из Назарета. Если же эти факты не проливали успокоительный бальзам на страждущую душу верующего, ему советовали положить рядышком Новый Завет и перевод свитка и убедиться самому, насколько несхожи и две книги, насколько понятней и роднее слова, которые он всегда знал и любил.
Нет никакого сомнения в том, что суждения этого рода разуверили и успокоили прихожан и служителей церкви, в равной мере плохо осведомленных об иудейских корнях их религии. Но время шло и рано или поздно среди интересующихся проблемой должны были появиться умные и любознательные люди, которые начали недоумевать: как христианство - ответвление иудаизма и религия, несомненно несущая на себе следы отдаленных контактов с вероучением, запечатленным в свитках, могло столь разительно отличаться от него? Этим людям предлагалось сравнить английский перевод свитка (оригинал на древнееврейском языке) и английский перевод Нового Завета (оригинал на греческом языке).
Сравнение немедленно заставляло любознательных усомниться в честности апологетов новых теорий. Целый мир отделяет древнюю семитскую литературу от более поздней греческой, и любое поверхностное сравнение способно лишь дезориентировать читателя. Интерес широкой публики в рукописям начал остывать. Люди окончательно запутались в хитросплетениях бесчисленных доводов и трактовок, датирования свитков и оценок их достоверности и, что самое главное, теряли веру в их важность для изучения христианства. Многие из так называемых «популярных» публикаций, появившихся примерно в 1956 году, словно ставили своей целью обескуражить читатели набором противоречивых взглядов ученых, уверить людей в невозможности разобраться в предмете исследования, которое-де по плечу только специалисту-учёному.
Однако наряду со всем вздором, который о них писался, в эти же годы о свитках и о связи с ранним христианством было написано несколько серьезных исследований. Был произведен крупный переворот в нашем понимании сектантского происхождения "мистических" высказываний Иоанна в Новом Завете. Оказалось, что постоянные противопоставления света и тьмы, добра и зла, которыми изобилует Четвертое евангелие и ряд других христианских источников, видимо, берут свое начало в миропонимания авторов, увековечивших себя в святках Мертвого моря.
Никто уж больше не мог утверждать, что «Евангелие от Иоанна» было самым поздним и наименее "палестинским произведением" в традициях Нового Завета. Семитские концепции, лежащие в основе таких встречающихся в Новом Завете фраз, как «люди доброй воли» или «нищие духом», теперь стали куда более понятны благодаря знакомству с ними по свиткам. Сектантское происхождение таких евангельских слов, как «насыщения толпы» или «тайная вечеря», стало несомненным после опубликования текстов, найденных в пещере, где описываются пиры с участием мессии.
Нет никакого сомнения в том, что та разновидность иудаизма, с которой мы встретились в свитках, стала религиозной матрицей христианства. И в этом нет также ничего неожиданного.
Ученые уже давно предполагали, что еврейская секта эссенов могла оказаться недостающим звеном, которое связывает иудаизм и христианство. До сих пор мы знали о них только по упоминаниям древних историков из Иудеи и Александрии, живших в I веке нашей эры. Теперь считается общепризнанным, что святки представляют собой остатки некогда обширной библиотеrи эсcенов. Более того, среди фрагментов рукописей были найдены обрывки книг, которые были нам знакомы по переводами позднее фигурировали в качестве апокрифов и псевдоапокрифов. С некоторой долей осторожности эти литературные источники так же можно использовать для понимания того, как жили и мыслили эссены.
Загадки эссенов
Эссены славились благочестием. Они жили в общинных поселках, так или иначе связанных с городами и деревнями, но стоявшими в стороне от них. У них была главная община, располагавшаяся где-то на берегу Мертвого моря, и большинство ученых связали её с остатками монастыря, обнаруженного неподалеку от вади Кумран. Эссены прилежно читали Библию и в каждой строке писания искали указаний, которыми можно было бы руководствоваться в повседневной жизни. Они практиковала крещение общинный коммунизм. Всё достояние общины принадлежало всем её членам. Больным и престарелым оказывалась помощь из средств общины.
В явлениях окружавшей их природы они искала "знамение времени" и считали, что могут предсказывать будущее. Славились они также даром врачевания и широко пользовались своими, видимо, обширными сведениями о целебных свойствах лекарственных трав и о способах изгнания злых духов, населявших их мир демонов. Сейчас с помощью документов дохристианской эпохи мы можем рассматривать Новый Завет в куда более ясной исторической перспективе. Некоторые аспекты христианского учения, несомненно, имеют исторические корни, уходящие в мировоззрения небольшой еврейской секты.
Но есть и различия. Какую бы пользу они ни приносили людям, оберегающим невинность своей верующей паствы, уму объективного историка они представляют несколько интереснейших загадок. В самых общих чертах главные различия состоят в отношении к миру, лежавшему за границей Иудейского царства. Общепризнано, что тексты Нового Завета есть не что иное, как пропагандистский материал, предназначенный для использования в нееврейской церкви.
Вполне понятно поэтому, что авторы текстов должны были постоянно подчеркивать универсальность взглядов новой религии. Греки, римляне и даже ненавистные самаритяне описаны в них с необычайной теплотой и мягкостью. Естественно поэтому, что в некоторых описаниях мессия должен был выглядеть как человек простой, доступный, легко вступающий в знакомство со всякого рода людьми. Однако сажать его за один стол с проститутками и сборщиками податей, возможно, означало бы, что авторы «хватили лишку» в столь фамильярном с ним обращении.
Если же вспомнить о сектантском происхождении новой веры, обо всём том, что она заняла у Ветхого Завета и иудаизма, то даже при самом поверхностном взгляде картина, нарисованная нам Новым Заветом, может удивить обилием противоречий и несовместимостей. Как, например, могло случиться, что враги новой секты именуются просто «евреями»? Разве главные действующие лица всей священной истории не были евреями? Почему там нет ни единого упоминания об эссенах, хотя названия фарисеев и саддукеев встречаются очень часто, а такие мало кому известные секты, как эллинисты и иродианцы, обозначены прямой ссылкой?
Или ещё. Если уж говорить о политических проблемах, потрясавших Палестину в период, к которому предположительно относятся рассказанные в Новом Завете истории, как мог иудейский священник не занять более определенной позиции по такому животрепещущему политическому вопросу, как деньги с изображением римского цезаря, и заявить «...кесарево кесарю...»? В Евангелии говорится, что вопрошавшие его люди пошли прочь пораженные мудростью и благочестием Иисуса, тогда как в действительности в накаленной политической обстановке тогдашней Иудеи зелот, взбешенный отсутствием патриотизма у священнослужители, попросту всадил бы ему нож в живот.
Заметённые следы
Короче говоря, слишком многие исторические реалии в Новом Завете не укладываются в рамки сравнительного исторического материала, который нам дали найденные рукописи. Я не говорю уже о явно фантастических чудесах, которые теологи новейшей школы относят и разряду мифологических, а посему не имеющих отношения и реальной действительности. Новый Завет изобилует местами, которые взяты прямо у эссенов, и в то же время заимствования иногда вывернуты наизнанку, лишены оригинальности, выхолощены в политическом отношении и заострены в совершенно ином направлении. Христианские ученые, как правило, не могут удержаться от искушения и не приписать всё гению и озарению свыше одного человека. Допустим, что так оно и было. У большей части возникавших движений можно обнаружить корни, которые приведут нас к одному оригинальному мыслителю, действовавшему на определенном историческом этапе.
Однако обычно требуется пройти весьма длинный путь, прежде чем первоначальные формулировки окажутся искаженными всеми последующими поправками. Авторы Нового Завета постоянно и настойчиво прячут и меняют свою сектантскую предысторию, и более информированного исследователя не покидает чувство, что все рассказанные ему истории ловко придуманы. Это и история и вместе с тем что-то совсем другое. В общих чертах исследовательские работы в области Нового Завета не пошли дальше той стадии, о которой я только что говорил. Однако, по моему глубокому убеждению, положение далеко не так безнадежно, как это может показаться. Мы находимся - и есть все основания это утверждать - на пороге крупнейших открытий.


Они могут начаться с признания того долга, в котором христианство находится перед эссенизмом. Новые исследования можно начать с изучения имен и титулов Иисуса и апостолов. Если удастся проследить их корни и происхождение в эссенских рукописях, то у нас появится вполне определенное звено, связывающее их с персонажами свитков, ибо сeйчас эти действующие лица легендарной истории связаны в нашем представлении лишь историческими, хронологическими и прочими ассоциациями общего плана. Некоторые считают, что Новый Завет, эта поразительно сложная и запутанная литературная композиция, сотканная из множества нитей - новелл, часто не сочетающихся по цвету и природе традиционного материала, есть вполне достоверное описание ряда событий, действительно имевших место в I веке нашей эры.
Я не верю в это. Тем не менее какое-то историческое основание имелось у историй, рассказанных там об Иисусе и его последователях, и было бы вполне уместно искать их корни в истории движения эссенов и их руководителя, которого эссены называли Учитель Правды. Именно в этом плане, возможно, следует обратиться к параллелям в мифах об Иисусе и Учителе Правды.
Вероятная связь может быть обнаружена в упоминании «распятого» и эссенской рукописи, где самый факт распятия относится к 88 году до нашей эры, когда «дурной первосвященник» обрек на эту мучительную казнь несколько сот руководителей восстания, поднятого против него его же собственной паствой. Еще одно указание на общность происхождения этих мифов может быть обнаружено в истории об Иоанне Крестителе, который выступил против брака царя со свояченицей.
Здесь легко заметить отражение аналогичной реакции на брак «дурного первосвященника» со вдовой его брата со стороны осуждавших такие браки иудеев того времени и, уж конечно, эссенов. Само собой разумеется, что детали этих легенд не всегда совпадают, однако женитьба тетрарха Ирода Антипы на Иродиаде могла послужить христианскому сказителю удобным предлогом и историческим фактом, к которому он и привязал события последних дней жизни Христа. Поэтому вполне вероятно, что легенды об Иоанне Крестителе и Иисусе Христе являются в значительной мере отражением биографических событий из жизни Учителя Правды.
Начало пути
Новый подход к источникам христианской литературы, несомненно, вызовет к жизни множество вопросов, но нельзя забывать, что впредь всякое исследование неизбежно столкнется с необходимостью сравнительного анализа на базе данных, которые содержатся в свитках Мертвого моря. Свидетельства Нового Завета были до сих пор единственными фактами, которые могли подтвердить достоверность христианской истории. Однако оценка этих фактов по номиналу уже невозможна, и нам предстоит решить, каково их значение, смысл, откуда они взяты и с какой целью. Все другие соображения имеют лишь второстепенное значение.
Мы стоим в начале длинного и интересного пути. Не все выводы можно брать на веру; многие из них подлежат тщательной проверке. Не только историчность легенд Нового Завета подвергнута сомнению, но и сама природа исторического материала, легшего в их основу, может стать источником поразительных неожиданностей. Уже имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют утверждать, что в лице христианства мы имеем дело с одним из вариантов эссенизма, который, в свою очередь, религиозными и философскими корнями уходит в глубины иудаизма. Там мы неизбежно сталкиваемся с миром черной магии, особенно с той ее разновидностью, которая трактует об общения с душами умерших, возвращении их и жизни и т.д.
За невинными христианскими легендами о возвращении к жизни маленьких девочек и пожилых мужчин лежат древние заклинания колдунов, кровавые ритуалы и таинства культов, возникших на заре истории. Способен ли ученый, воспитанный в христианской традиции, бестрепетной рукой снять покровы с самых заветных тайн, хранящихся в материале, с которым ему предстоит работать? Для тех из нас, кто подходит к загадкам христианства в чисто историческом или литературном плане, работает с материалами, которые рассматриваются как источники информации, вопросы эмоционального характера не имеют значения.
Иначе дело обстоит с теми, для кого Новый Завет - оплот веры. Нельзя и ожидать, что эти ученые смогут подойти к священному писанию свободно, бесстрастно и объективно. Но как иначе можно осуществить тот прорыв в волнующую эпоху человеческой истории, который позволяют сделать свитки, обнаруженные на берегу Мертвого моря? Мы возвращаемся к проклятию, которое довлело над свитками с того дня, когда они были найдены, - отсутствию денег. Если бы сейчас, столько лет спустя, были предоставлены средства не только для того, чтобы сохранить уже имеющиеся рукописи, но и для того, чтобы пуститься на поиски новых документов, чтобы дать новому поколению свободных ученых возможность исследовать кумранские свитки без страха или предубеждения, в обстановке, свободной от давления со стороны церковных или академических кругов, мы могли бы думать о будущем этих исследований с уверенностью и надеждой.
Вопрос, видимо, также состоит и в том, способно ли наше поколение заглянуть в глаза правде и всему тому, что она означает.
"За рубежом", 1966


Об авторе: Джон Марко Аллегро родился в Лондоне в 1923 году и начал изучать лингвистику после службы в Королевском военно-морском флоте. Он учился в Манчестерском университете, где получил диплом с отличием по специальности "Лингвистика". Изучал востоковедение в 1951 году. В следующем году он получил степень магистра и занимался дальнейшими исследованиями диалектов иврита в Оксфорде, когда его попросили прилететь в Иерусалим, чтобы присоединиться к международной команде по изучению свитков. После года работы над редактированием фрагментов он вернулся в Великобританию, получив курс Сравнительной семитской филологии в Манчестерском университете.
С тех пор он несколько раз возвращался в Иерусалим в связи со своей работой над свитками, а весной 1955 года принял участие в эпиграфической экспедиции по набатейским памятникам, организованной французской Академией надписей и изящной словесности. Помимо предварительной публикации ряда фрагментов свитков, он написал несколько статей по семитской филологии в британских и зарубежных периодических изданиях и несколько раз выступал с передачами, посвященными свиткам. Он женат, у него есть сын и дочь.