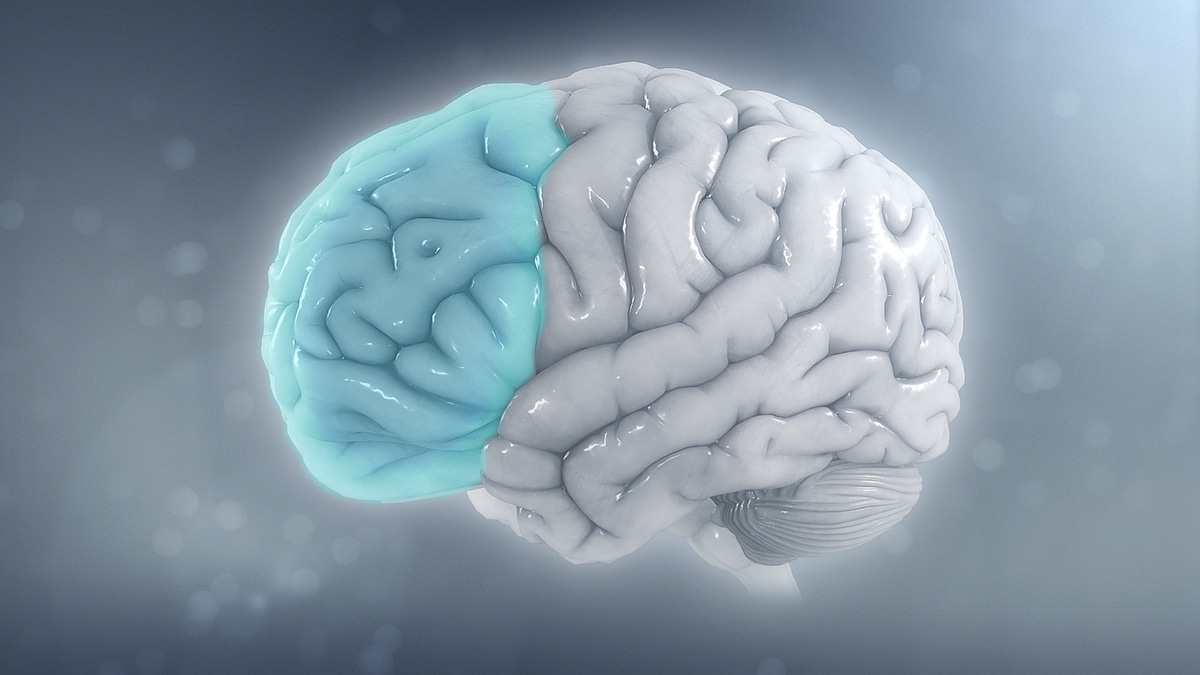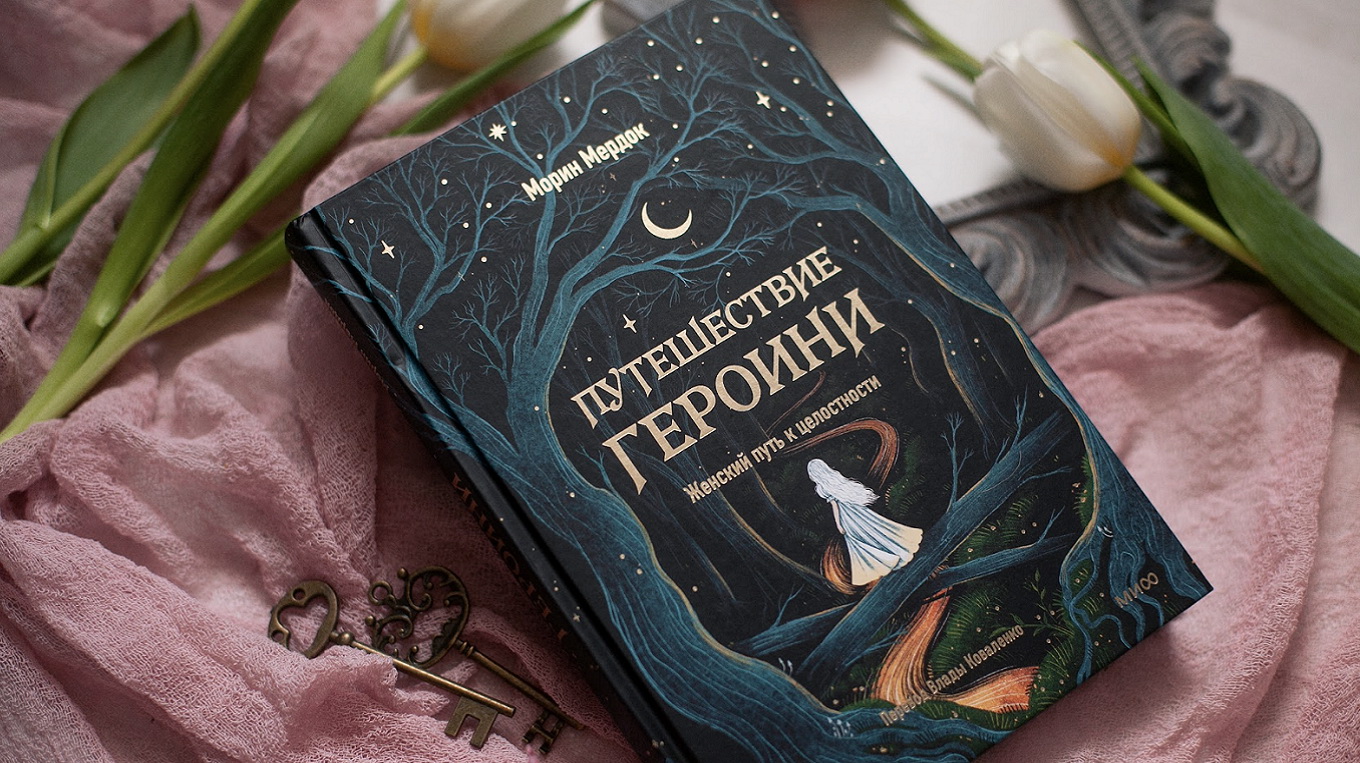Желуди в воде: в чем уникальность причинно-следственных связей
Понимание причинно-следственных связей — это когнитивная способность, которая дает нам возможность осознавать, как вещи влияют друг на друга. Мы можем представить себе, как что-то свершается, создается, рождается. Как луна вызывает приливы и отливы, почему от вирусов мы плохо себя чувствуем, как тарифы меняют международную торговлю, каковы последствия разных событий в истории. Причинно-следственные связи — это […] Сообщение Желуди в воде: в чем уникальность причинно-следственных связей появились сначала на Идеономика – Умные о главном.

Понимание причинно-следственных связей — это когнитивная способность, которая дает нам возможность осознавать, как вещи влияют друг на друга. Мы можем представить себе, как что-то свершается, создается, рождается. Как луна вызывает приливы и отливы, почему от вирусов мы плохо себя чувствуем, как тарифы меняют международную торговлю, каковы последствия разных событий в истории. Причинно-следственные связи — это основа всех мыслей о том, как, почему и если бы. Когда вы планируете завтрашний день, думаете о том, как что-то могло сложиться иначе, или даже представляете себе что-то нереальное, за дело берется ваше причинно-следственное понимание.
В повседневной жизни эта способность наделяет особой продуктивностью наблюдения за измененими в окружающем мире. Если раздается звук, значит что-то или кто-то его издает. Если на машине вмятина, кто-то ее оставил. Вы понимаете, что промокнете из-за ливня, и потому открываете зонт. Вы смотрите, как желудь падает с дерева в лужу, и заранее знаете, что по воде пойдет рябь.
Эта способность настолько естественна, настолько автоматизирована, что трудно представить себе человеческий опыт без нее. Так же невозможно воспринимать буквы как просто фигуры на странице или экране. Попробуйте! Мы не можем воспринимать отдельно лужу, а затем лужу с желудем и рябью. Мы воспринимаем их уже связанными. Большинство из нас не осознают, что это является когнитивным достижением. Но на самом деле это очень необычно. Ни одно другое животное не мыслит о причинно-следственных связях так объективно и обобщенно, как мы. Только люди видят мир, пронизанный причинно-следственными связями, и поэтому обладают беспрецедентной способностью менять его и контролировать.
Наше понимание причинно-следственных связей — это сверхспособность.
Научная история о том, как развивается причинно-следственный разум, рассказывает ещё об одной суперспособности: социальности человека. Именно уникальная чувствительность к другим людям позволяет нам обрести особое причинно-следственное понимание. Эта история также поднимает вопросы о «других разумах». Если наше причинно-следственное понимание является скорее исключением, чем правилом, то как мир выглядит для других животных? Если мы попытаемся отказаться от причинно-следственной необходимости, которая структурирует большую часть нашего опыта, что останется?
Я предполагают, что останется опыт действия — наполненная ценностями, личная и по своей сути интерактивная точка зрения. Именно в этой вовлечённой, активной «точке действия» — в отличие от отстранённой, объективной точки зрения — прорастают семена высшего познания. Осознание того, что наша изначальная точка зрения ориентирована на действие и направлена на достижение цели, также может помочь нам понять наши собственные недостатки — и то, как их изменить.
Психологические исследования причинно-следственных связей в большей степени опираются на концепцию «интервенционизма». Подумайте о двух изменениях, которые происходят одновременно. Восходит солнце, и кукарекает петух. Что было причиной: восход солнца или кукареканье петуха? Это нетрудно решить. Но, как и во многих философских изысканиях, кажущаяся простой истина становится труднообъяснимой, если попытаться её сформулировать. (Что вы имеете в виду, говоря, что восход солнца «вызывает» кукареканье петуха? — Я думаю, солнечный свет активирует циркадный ритм петуха или что-то в этом роде. Что вы имеете в виду под «активирует»? — Э-э, я точно не знаю… может быть, это как-то связано с гормонами… Что вы имеете в виду под «как-то связано»? — Э-э… запускает? Триггеры? Генерирует? Но что значит «запускает», «триггеры», «генерирует»…?)
Интервенционизм предлагает чёткое определение «причины», которое помогает структурировать это понятие. Есть два этапа. Во-первых, причины и следствия рассматриваются как переменные со значениями, которые могут меняться. Положение солнца может иметь значение «вверх» или «вниз»; пение петуха может быть «кукареканьем» или «некукареканьем». Во-вторых, причинно-следственная связь определяется с точки зрения вмешательств — целенаправленных изменений. Представьте, что всё остаётся по-прежнему, а меняется только то, восходит ли солнце. Если бы оно не взошло, петух всё равно бы кукарекал? А теперь попробуйте наоборот: если бы петух молчал, солнце взошло бы?
Смена солнца изменяет петуха, но смена петуха не изменяет солнце. Таким образом ясно, что солнце — это причина, а кукареканье — следствие.
Этот способ определения причинно-следственных связей часто называют «созданием различий». Причина — это то, что создаёт различия с чем-то другим: пошевелите причиной, и следствие тоже зашевелится. Это не совсем удовлетворит нашего воображаемого скептика — (что вы имеете в виду под «созданием различий»?) — но даст нам более точный способ говорить о причинно-следственных связях. Как показывает пример с солнцем и петухом, вмешательство не обязательно должно быть возможным. Ключевая идея проста: если бы мы изменили причину, то это изменило бы следствие.
Другой способ понять причинно-следственные связи — осознать разницу между прогнозированием и контролем — или разницу между статистическим и интервенционным обучением.
Рассмотрим следующую последовательность: #@mb!#@mb!#@mb!#@mb…
Что будет дальше?
А в цепочке: красный, красный, зеленый, зеленый, фиолетовый, фиолетовый, синий… Какое будет следующее слово?
Люди и другие животные отлично умеют подмечать закономерности. Это статистическое (или ассоциативное) обучение, и оно приводит к статистическим знаниям — знаниям о взаимосвязях. Мы делаем это пассивно и автоматически, и это даёт нам возможность предугадывать. Представьте, что статистические знания — это как знакомая песня по радио: вы просто знаете, что будет дальше, и не нужно прилагать усилий.
Интервенционное обучение, напротив, является активным — обучением на практике. Оно приводит к пониманию причинно-следственных связей и даёт нам возможность их контролировать.
Вот сценарий, который поможет это проиллюстрировать. Представьте, что вы стоите у входа в хозяйственный магазин, прислонившись к двери, и ждёте, пока я оплачу покупки. (Если вам так будет проще: я белая женщина лет тридцати с розовыми волосами.) Вы смотрите, как по улице проезжают машины. Позади вас люди в очереди разговаривают друг с другом. Время от времени дребезжит колокольчик. Вы отступаете назад, когда кто-то суетливо проходит мимо с поддоном с растениями.
— Эй, — говорю я, направляясь к выходу. — Зачем вы звоните в колокольчик?
— Что вы имеете в виду? — отвечаете вы. — Я просто стою.
Я указываю на колокольчик над вашей головой.
«Я не знал, что звоню в него!» — говорите вы и дергаете дверь туда-сюда, и это правда: при движении двери звонит звонок, и это вы приводили дверь в движение, опираясь на нее.
Сцена, которую мы только что представили, взята из иллюстрации к книге «Интенциональность» (1957) философа Дж. Э. М. Энском. В этой книге «действия» — это то, к чему применим особый смысл вопроса «Почему?» — в частности, «Почему?» мы говорим людям, когда спрашиваем об их цели, задаче или замысле (Почему вы звоните в этот звонок?) Когда вы звонили в дверь, не зная об этом, говорит Энском, это не было действием. Но когда вы открыли дверь, чтобы позвонить, — когда вы знали, что делаете, — тогда это стало действием.
Развитие причинно-следственного мышления зависит именно от этой «внутренней точки зрения» на ваши собственные действия — от вашего знания о цели, к которой вы стремитесь, совершая действия.
Я назову это так: ваша точка зрения на происходящее.
У многих животных есть цель. Они легко усваивают причинно-следственные связи между действиями (например, нажатием на рычаг) и желаемыми результатами (например, получением пищи). Но их причинно-следственное обучение, как правило, ограничено конкретными контекстами и короткими временными рамками. Если голубь усвоит, что нажатие на рычаг приводит к получению пищи, ему, скорее всего, придётся заново учиться этому в новой обстановке. Если между нажатием на рычаг и получением пищи будет задержка, он тоже не поймёт, что произошло.
Причинно-следственное понимание у животных, не относящихся к человеческому виду, в значительной степени эгоцентрично. Это «я-причинность» или «мне-причинность» — ограниченная изменениями, которые вызывают их собственные действия, и зависящая от целей, которые фокусируют внимание на конкретных переменных.
Даже умные животные (обезьяны, крысы, вороны) учатся причинно-следственным связям только при активном подкреплении вознаграждения (например, в поисках еды). Когда неодушевленный предмет, действия другого животного или собственные случайные движения вызывают должный эффект, они, как правило, не осознают, в чем причина.
Тем не менее, есть некоторые свидетельства того, что обезьяны могут изучать некоторые причинно-следственные связи, наблюдая за другими. Но люди находятся в своей особенной лиге. К трем месяцам младенцы, по-видимому, обладают не только первично-личным пониманием (я-причинная связь), но и третьеличностным (они-причинная связь). Поскольку мы постоянно интерпретируем движения других людей как целенаправленные действия, мы рассматриваем причины, которыми они манипулируют, и последствия, которые они стремятся вызвать, как поддающиеся манипулированию и производимые и для нас тоже.
В первые восемь-двенадцать недель жизни у младенцев развивается «я-причинно-следственное» понимание, которое позволяет им плакать целенаправленно, чтобы привлечь внимание, и дрыгать ногами, чтобы осваивать движение. Они также понимают, что гуление и мимика вызывают реакцию у тех, кто за ними ухаживает, — чего, по-видимому, не делают другие приматы. К девяти месяцам «они-причинно-следственное» понимание проявляется в полной мере. Младенцы могут имитировать действия других людей с игрушкой, например, нажимать на кнопку, чтобы раздался звук. В 14 месяцев они могут воспроизводить необычные действия, которые никогда не пробовали, например, включить свет головой.
В раннем детстве дети обобщают связь причины и следствия, наблюдая за действиями других людей. Кроме того, они усваивают слова для обозначения обобщений, применимых к разным ситуациям. Малыш может использовать слово «нет», когда в бутылочке заканчивается молоко, когда лопает мыльный пузырь, или когда теряется игрушка.
Эти социальные действия – взаимодействие, наблюдение и навешивание ярлыков – постоянно привлекают внимание детей к новым причинно-следственным переменным и связям. В некоторых культурах взрослые спонтанно предлагают причинно-следственные объяснения. (Брокколи делает тебя большим и сильным. Давай поставим пирог в духовку, чтобы он получился пышным.)
Разнообразие, универсальность и огромное количество причинно-следственных связей, которые может понять даже двухлетний ребёнок, применимы к большему количеству областей и более длительным временным рамкам, чем когда-либо изучали животные, не являющиеся людьми. Взаимодействие с артефактами — от погремушек до выключателей и iPad — вероятно, также способствует формированию ощущения «возможных причин где угодно», мира, открытого для манипуляций. Как будто социальная среда заставляет нас думать: что я могу сделать? что я могу сделать? что я могу сделать?
Но есть интересное ограничение. Примерно до четырёхлетнего возраста причинно-следственные связи у детей остаются тесно связанными с их собственными и чужими целенаправленными действиями. В одном исследовании дети в возрасте двух, трёх и четырёх лет наблюдали за тем, как игрушечная машинка подъезжала к стене. Когда она подъезжала, на некотором расстоянии от неё вращался волчок. Дети всех возрастов демонстрировали статистическое обучение (предсказание): через некоторое время они смотрели на волчок, когда машинка подъезжала.
Неясно, что именно движет развитием безличного, это-причинного понимания – перехода от причинного понимания, основанного на действиях, к объективному, где причинность рассматривается как часть самого мира. (Это причинно-следственное понимание, которое заставляет вас посмотреть на дерево над вашей машиной, чтобы проверить, не мог ли желудь стать причиной вмятины.) Однако примерно в возрасте четырёх лет у детей также развивается «теория разума» (понимание того, что убеждения людей могут не соответствовать действительности), восприятие визуальной перспективы (понимание того, что синее для кого-то в жёлтых очках будет выглядеть зелёным) и терпимость к «двойному наименованию» (вы говорите «дерево», я говорю «куст»; мы оба можем быть правы). Примечательно, что все это предполагает одновременное удержание в уме двух идей об одном и том же предмете.
Какова бы ни была первопричина уникального для людей общего и безличного понимания причинно-следственных связей, очевидно, что другие животные постоянно находятся в «я-причинно-следственной» перспективе — точке действия. Они никогда не достигают объективной точки зрения, где причинно-следственные связи являются частью всего.
Как для них выглядит мир? Вот как я это себе представляю. Когда вы смотрите 3D-фильм в 3D-очках, объекты «выступают» из кадра. Через призму «я-причинности» я представляю себе своего рода примитивную панель управления — аналог рычагов, переключателей и циферблатов в дикой природе. Палка может выступать в качестве средства для извлечения недоступного плода. Длинная травинка может послужить инструментом для извлечения пищи из термитника.
Но эти «поддающиеся воздействию» элементы для действий будут немногочисленны. И в основном они будут появляться в ситуациях, очень похожих на те, в которых вы действовали раньше. Всё остальное будет просто вариациями — как меняющиеся формы на заставке ноутбука. Некоторые изменения будут безобидными (колышущаяся трава на ветру). У других могут бы быть валентные ассоциации — например, внезапный шорох в кустах («ой-ой!»), крики далёких сородичей («друзья!») или запах потенциального партнёра («о-о-о!»). Но эти восприятия, паттерны и ритмы являются знакомой, предсказуемой и надёжной музыкой, но не причинно-следственной, неконтролируемой и необъяснимой.
Следует отметить ещё кое-что. Человеческая среда устроена нами же самими так, чтобы беспрепятственно поддерживать манипуляции и контроль. Мы живём в мире плоских поверхностей, дверных ручек и различного «оборудования». Но другие животные не живут в таком мире. Орангутаны проводят большую часть жизни в лесу, перелезая с ветки на ветку. Некоторые ветки можно оттолкнуть, другие отбрасываются в сторону, а третьи вообще нельзя сдвинуть — приходится обходить их. Арктический тюлень пробивает зубами и когтями отверстия в твёрдом, неподатливом льду. Альбатрос умело ориентируется по ветру, который ускоряет его полёт, но не может его контролировать.
Действие животного характеризуется не столько контролем, сколько чем-то вроде сотрудничества. Это существование, в котором «действие» означает работу с окружающей средой, а не доминирование над ней. Когда-то и у нас было такое мировоззрение. До того, как мир предстал перед нами как нечто управляемое и контролируемое, готовое подчиниться нашей воле, он был динамичным. Это была сила, с которой нужно было считаться.
Когда я думаю о причинно-следственных связях в человеческом понимании, я часто вспоминаю «Ученика чародея». Это короткометражный мультфильм из музыкальной антологии Диснея «Фантазия» (1940), основанный на одноимённом стихотворении Гёте. Микки Маус, одетый в синюю волшебную шляпу и красную мантию, — озорной ученик чародея. Он крадёт книгу заклинаний своего учителя и заколдовывает метлу, чтобы та выполняла его работу: наполняла котёл. Метла отращивает руки, берёт вёдра Микки и начинает ходить кругами. Она набирает немного воды и выливает её в котёл. Затем она делает это снова… и снова. И снова. Котёл переполняется, и Микки впадает в панику. Он рубит метлу топором, но каждый волшебный обломок превращается в новую метлу! Вскоре у котла оказывается целая армия мётел. Когда волшебник наконец спасает его, Микки цепляется за книгу заклинаний и плывёт по течению.
Наше понимание причинно-следственных связей лежит в основе науки и техники. Оно подарило нам водопровод, электричество и канализацию; велосипеды, туннели и ракеты; вакцины и химиотерапию. Оно лежит в основе социальных технологий, таких как моральная ответственность, торговые соглашения и правила дорожного движения. Оно позволяет нам планировать, рассказывать истории и воображать новые возможности. Но оно может быть и тёмной магией. Наша огромная способность манипулировать физической и социальной средой привела к появлению промышленных загрязнителей, меняющих климат; микропластика, проникающего в наш мозг, яички и грудное молоко; промышленных ферм и токсичных пестицидов; продуктов питания, вызывающих привыкание; наркотиков; оружия массового поражения; а также алгоритмов, специально разработанных для манипулирования решениями и вниманием.
Наша коллективная способность делать новый выбор в отношении того, как поступить с этой силой, определит судьбу нашего вида. Самое страшное, разочаровывающее и трудное заключается в том, что это кажется нам неподвластным.
Но я полон надежд. Я думаю, мы можем использовать наше понимание причинности, чтобы вмешиваться в собственное поведение. Во-первых, мы знаем, что оно очень гибкое. Даже дети младшего школьного возраста способны понять сложные причинно-следственные связи, задействованные в экосистемах, пищевых цепочках и структурном неравенстве – это может послужить руководством для образования. Мы также знаем о силе социальности – о способности выделять переменные друг для друга. Друзья и семья — важный источник информации о факторах, влияющих на наше здоровье (например, физические упражнения, диета и микропластик) и на здоровье планеты (например, устойчивые потребительские практики). Чем больше мы говорим друг с другом об этих факторах, тем сильнее они влияют на нас и на весь вид.
Наконец, причинно-следственное понимание изначально коренится в наших ценностях — в том, чего мы хотим. Самое примитивное причинно-следственное обучение происходит, когда мы стремимся к тому, чего хотим добиться. Это означает, что оптимистичные, ориентированные на действия предложения, вероятно, более эффективны, чем пессимистичные и мрачные. Мой любимый недавний пример причинно-следственного воображения — книга «Что, если мы всё сделаем правильно?» (2024) морского биолога и борца с изменением климата Аяны Элизабет Джонсон. Автор книги предлагает нам представить будущее, в котором мы хотим жить, и стремиться к нему — каждый по-своему, в своих сообществах. По её словам, у нас уже есть множество решений; нам просто нужно масштабировать, распространять и использовать их. Я думаю, что надежда есть.
Сообщение Желуди в воде: в чем уникальность причинно-следственных связей появились сначала на Идеономика – Умные о главном.






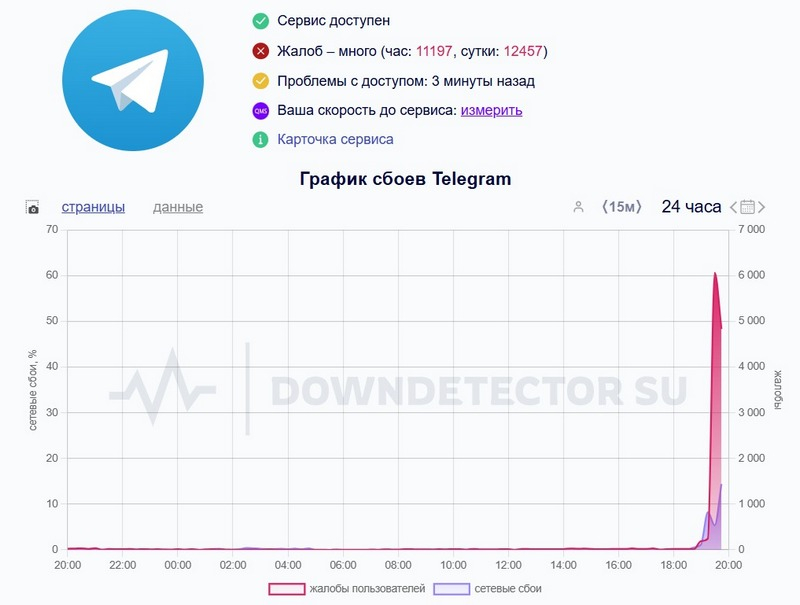



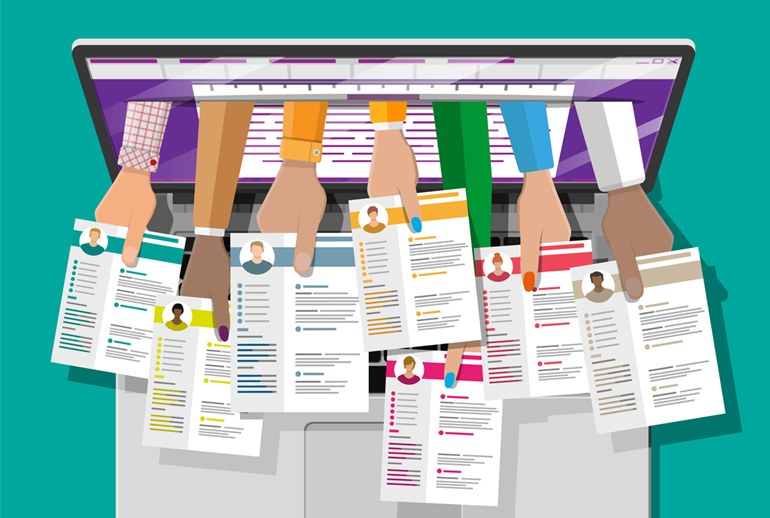

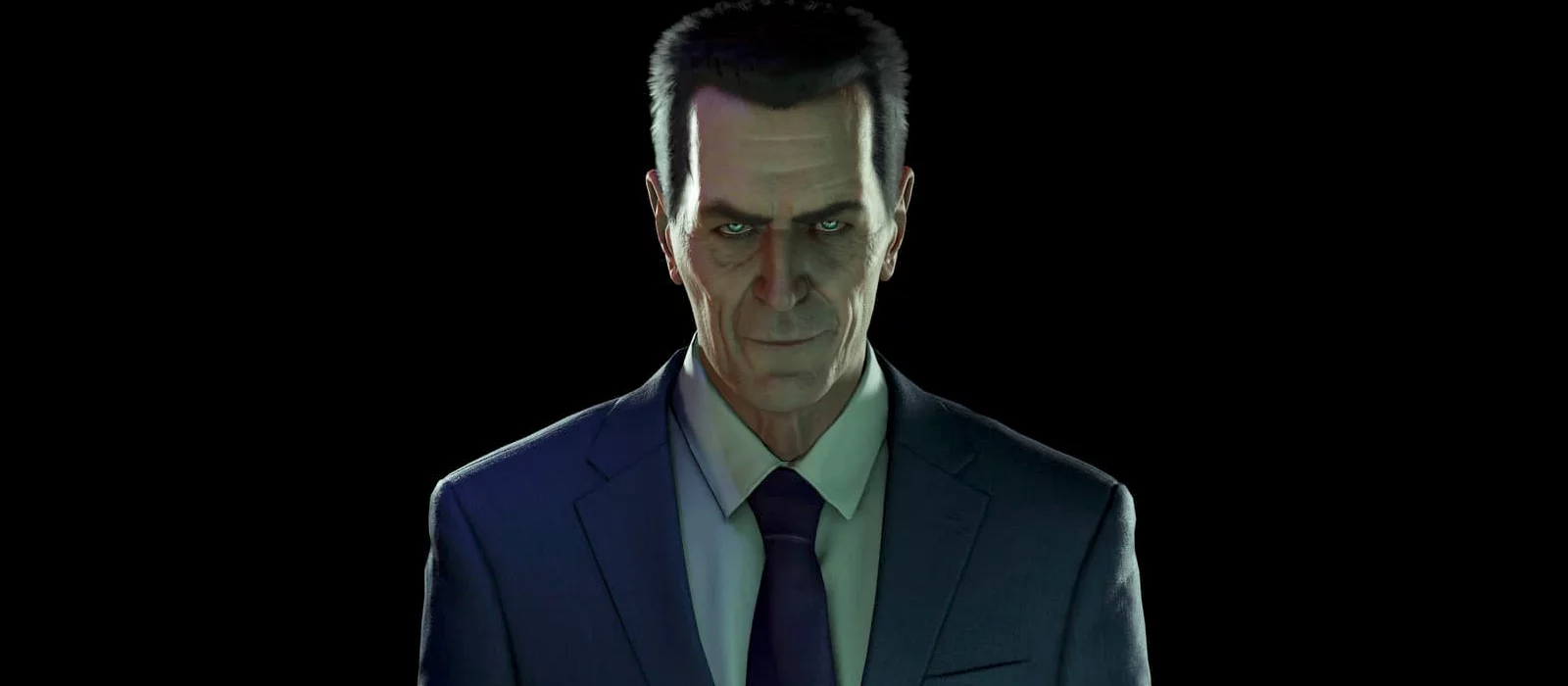
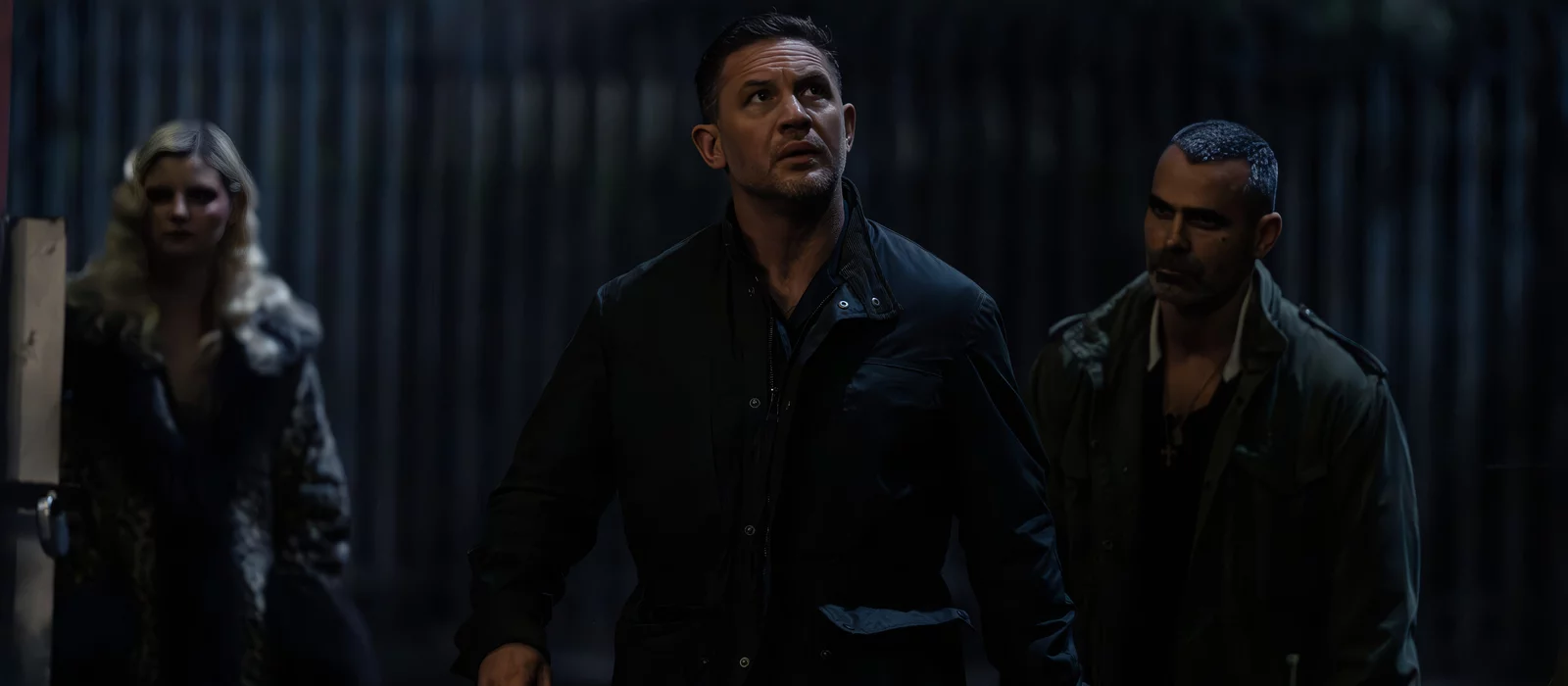
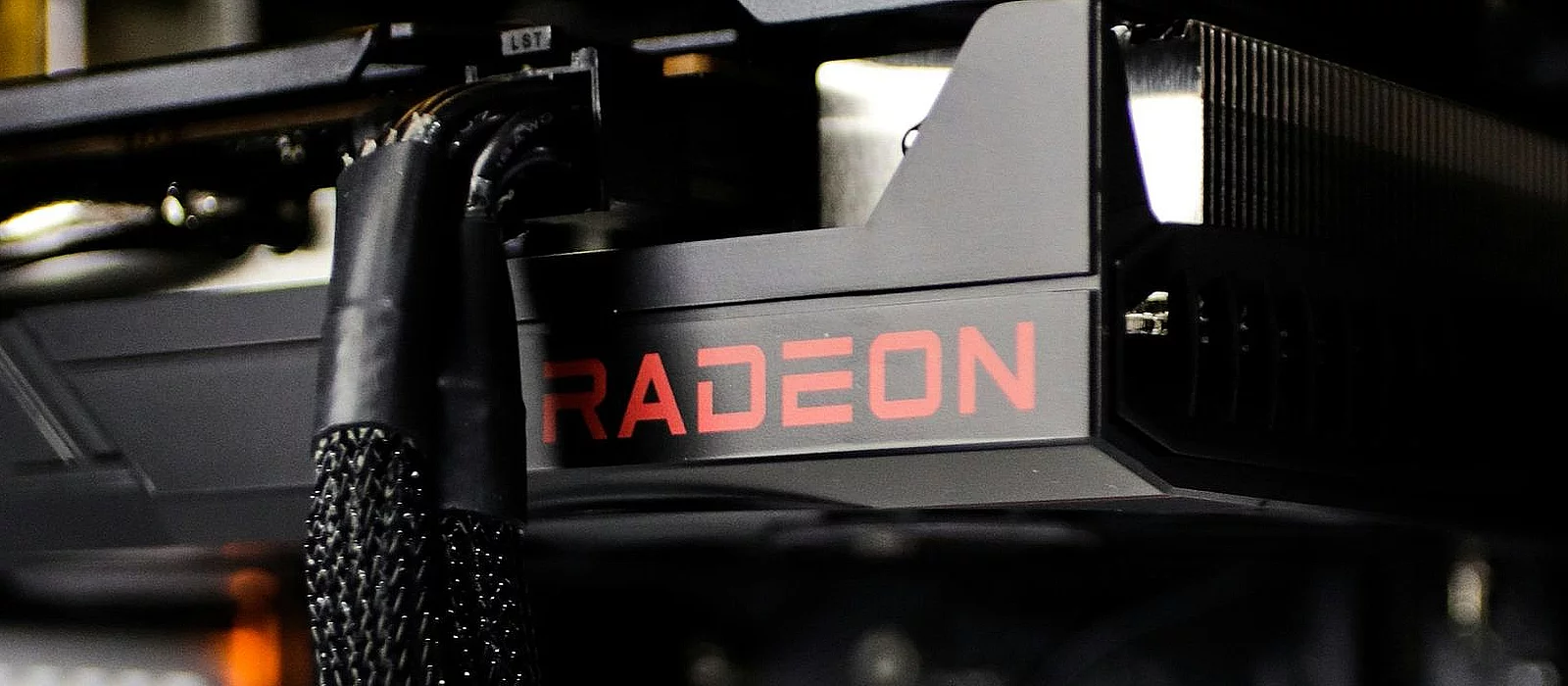









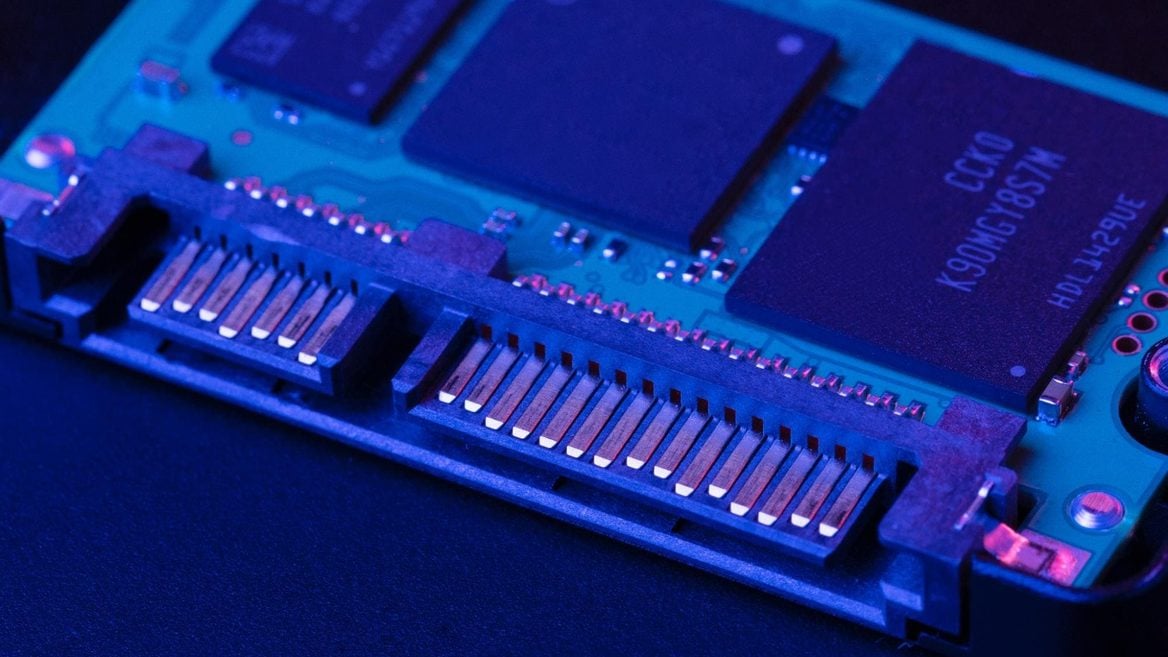
![Інтенсив «Філософія [штучного] розуму», 14 травня, Київ](https://s.dou.ua/CACHE/images/img/announces/Філософія_штучного_розуму/52659adaf2f2c9666bd2558a7faf738b.png)