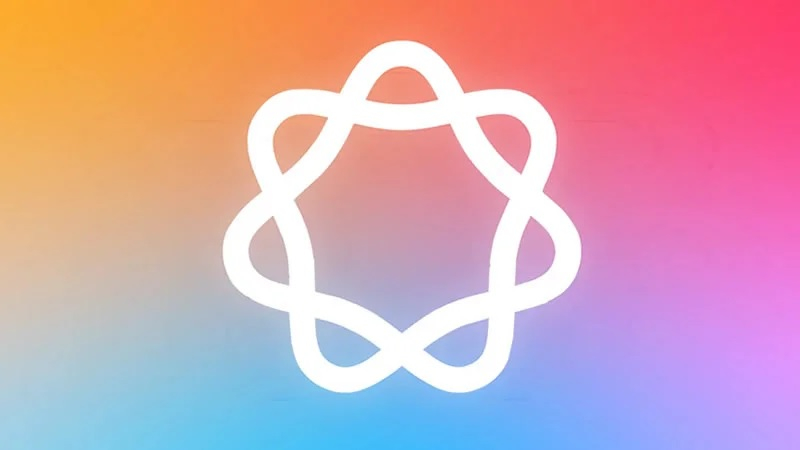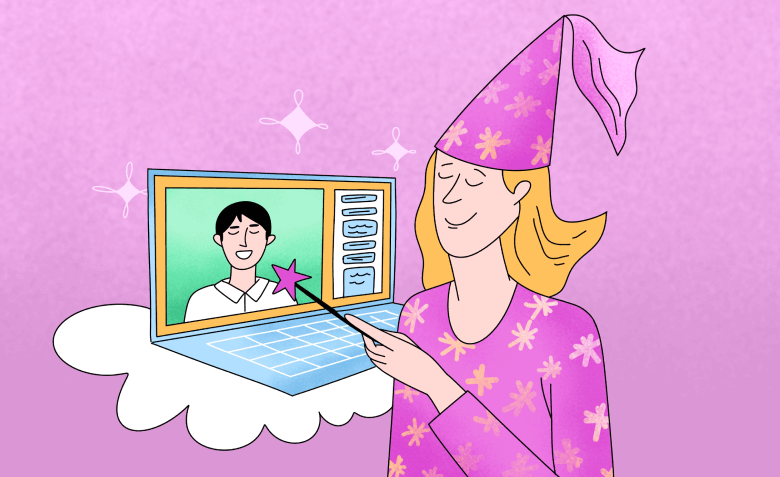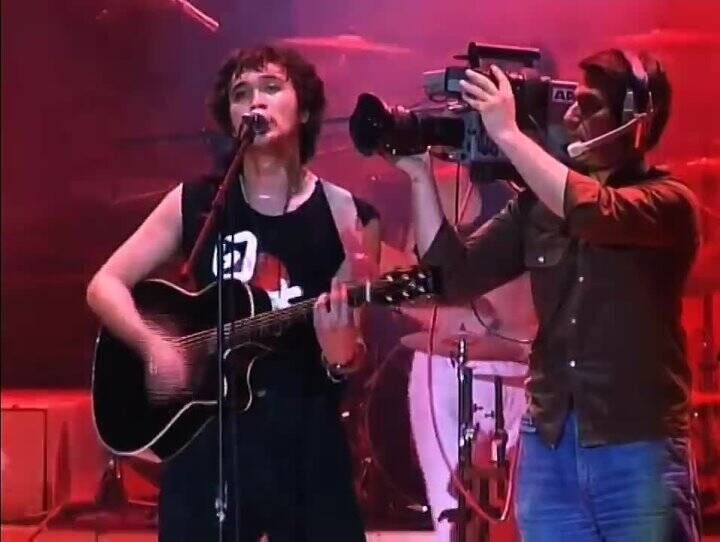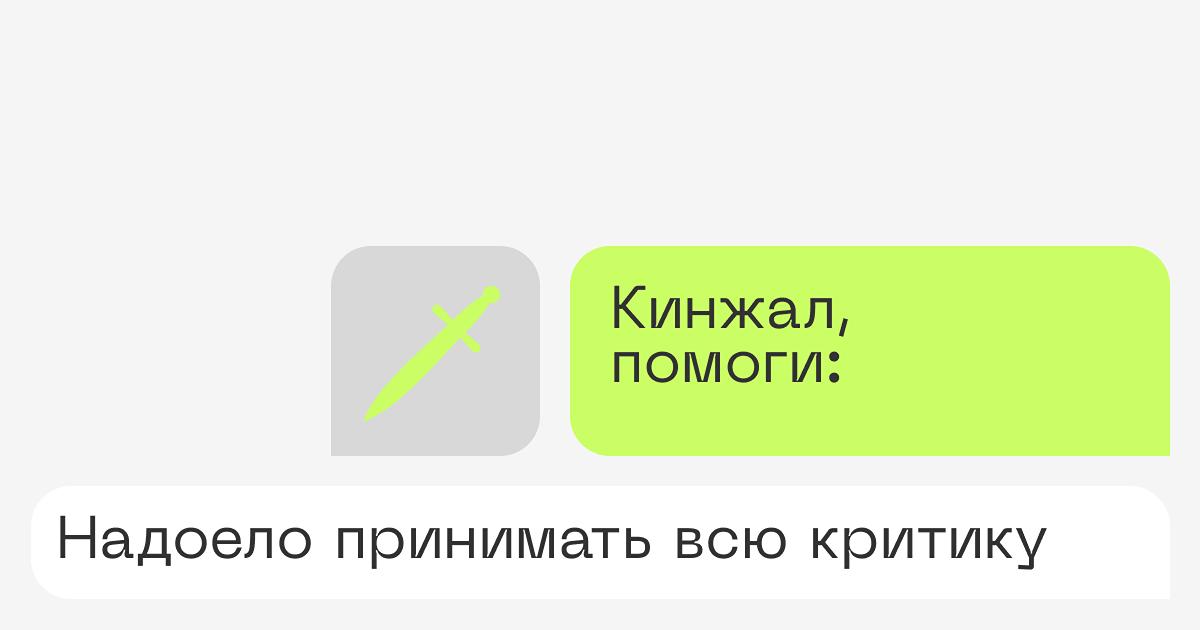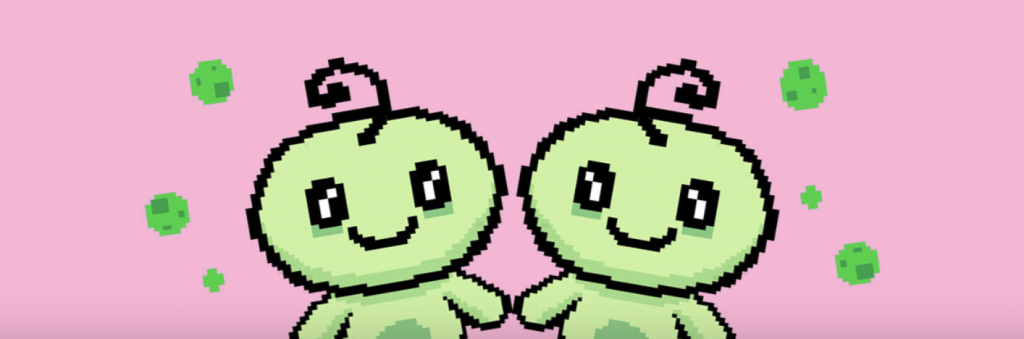Скучно, когда скучно: жанровое кино недооценено
Этот мир давно прогнил Под конец прошлого года многие СМИ взвыли, увидев статистику кассовых сборов за 2024 год: оказалось, там не было ни одного «оригинального» фильма, сплошные сиквело-ремейки-спин-оффы, да перезапуски с легаси-сиквелами. Отечественный кинопрокат не отстает от мирового тренда: киноверсии популярных сказок да игровые версии хитов советской анимации будут царствовать в репертуаре еще долгое время. Допустим, с ремейками уже разобрались: их и в античности делали, значит и нам можно, но все-таки —…

Часто кажется, будто умное кино обязательно должно быть скучным. Или что есть кино «зрительское», а есть «не для всех». Откуда пошли такие домыслы, к чему они привели всю кинокультуру и какие проблемы от этого есть прямо сейчас, размышляет Павел Пугачев.
Этот мир давно прогнил
Под конец прошлого года многие СМИ взвыли, увидев статистику кассовых сборов за 2024 год: оказалось, там не было ни одного «оригинального» фильма, сплошные сиквело-ремейки-спин-оффы, да перезапуски с легаси-сиквелами. Отечественный кинопрокат не отстает от мирового тренда: киноверсии популярных сказок да игровые версии хитов советской анимации будут царствовать в репертуаре еще долгое время. Допустим, с ремейками уже разобрались: их и в античности делали, значит и нам можно, но все-таки — неужели мы живем в кризисное для мировой культуры время?
Ладно культура в целом, обратимся к кино. Его хоронят чуть ли не с момента зарождения. Еще братья Люмьер думали, что их забава скоро всем надоест, поэтому и стремились заработать на ней как можно больше и быстрее. Каждое новое техническое новшество (звук, цвет, возникновение видео, появление телевидения, популярность стримингов) оборачивалось очередной паникой, преждевременными похоронами и внезапным воскрешением. И, что характерно, каждый кризисный этап оборачивался шедеврами и открытиями: без смерти немого кино мы бы не получили чаплиновские «Новые времена», без прихода цвета в кино не получили бы принципиально черно-белые шедевры советской оттепели, без страха перед телевидением не было бы Нового Голливуда, если бы не было видео — мир мог остаться без Тарантино с Пак Чхан-уком. Всё к лучшему, вот только непонятно: а есть ли сегодня хоть у кого-то образ будущего? Молчим и скроллим дальше.

Ни вправо, ни влево
Мир удобно делить на черное с белым, что уж говорить про обобщенное восприятие кино. Если допустить, что есть фильмы «хорошие», значит, должны быть и «плохие». Примерно та же логика с разделением «авторского» («сложного», «умного», «артхаусного») и «массового» («попкорнового», «жанрового», «зрительского») кино. Совсем не синонимичные понятия без каких-либо усилий становятся взаимозаменяемыми. А зря!
Во-первых, стоит определиться с дефинициями. Давно умерший, но время от времени восстающий из пепла ярлык «артхаус» подходит далеко не ко всему авторскому кино: хотя бы потому, что принципиальная для настоящего артхаусного кино позиция предельно отстраненного наблюдения не очень сходится с концепцией авторского кино, которому присущ индивидуальный взгляд. Жанровое кино не всегда становится действительно массовым: каждый день выходят новые хорроры, триллеры, комедии и драмы, которые могут и не найти своего зрителя. Не под каждый «зрительский» фильм уместно есть попкорн, а некоторые действительно зрительские фильмы могут не добраться до кинопроката. И, разумеется, не каждое «сложное» кино на самом деле «умное»: часто занавески так и остаются занавесками.
Во-вторых, авторское кино вполне может быть и массовым: «Список Шиндлера», «Судьбу человека», «Крестного отца» и «Психо» сняли ярчайшие авторы. За действительно большими успехами всегда стоит человек, а не департаменты.
В-третьих, и это самое главное: делая ложное противопоставление, мы ставим подножку каждой из этих сторон. Разделяя кино на условно «авторское» и условно «массовое», мы делаем хуже и тому, и другому. В итоге страдают все.
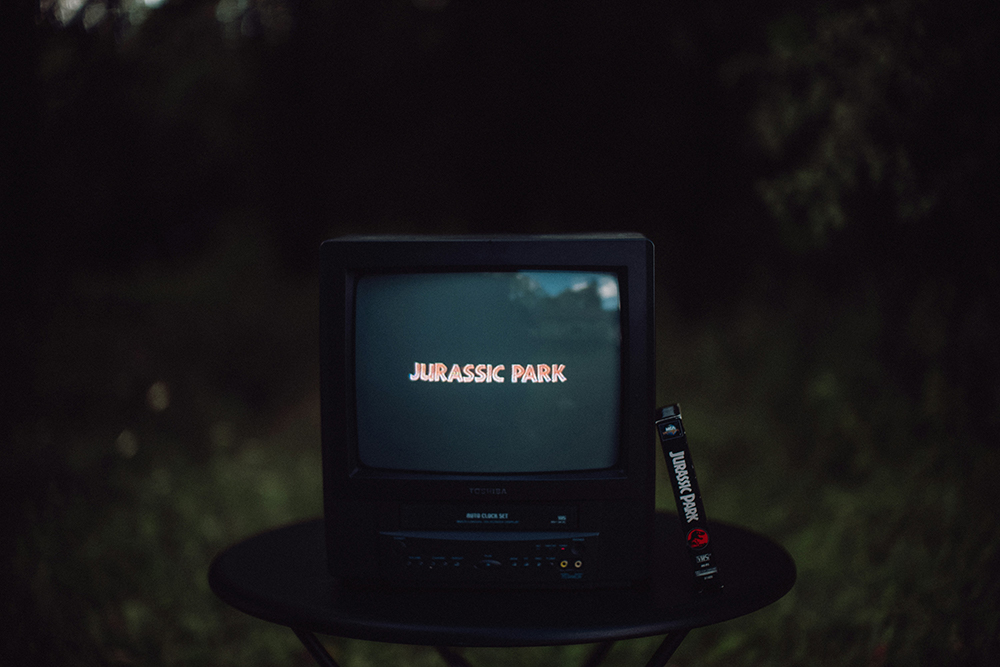
Выбери жизнь, выбери жанр
Жанровое кино почти никто не понимает, не ценит, не воспринимает всерьез. Кроме американских кинотеоретиков вроде Томаса Шаца, Дэвида Бордвелла, Рика Альтмана, в разное время взбунтовавшихся против пренебрежительного отношения киноведов к жанровому кино и проблематике жанра вообще. Трудно в это поверить, но большую часть XX века практически никто из кинотеоретиков не задумывался об этом всерьез, предпочитая натягивать Фрейда на кино, размышлять о репрезентации реальности, феномене фотогении или о том, как немецкий экспрессионизм связан с немецким фашизмом. Это все важно и интересно, но пока роль автора утверждалась все сильнее, о роли жанра думали разве что голливудские продюсеры, интуитивно понимавшие, что в следовании канону и наличии штампа нет ровным счетом ничего плохого.
Жанр — это динамическая структура, постоянно подверженная изменениям, но при этом несущая в себе некий концептуальный стержень. Например, вестерн можно перенести даже в современность, но в нем должен остаться мотив фронтира и тема переопределения границ добра и зла. Комедия может быть и совсем не смешной, но должны сохраниться обязательные маркеры — масочность, неизменность героев, воплощение и осмеяние пороков.
Жанр — это еще и этическая категория. Военный фильм содержит одну моральную концепцию, гангстерский фильм — несколько иную, хоррор или триллер — третью. Приходя на мелодраму мы ждем одного, приходя на фильм ужасов — чего-то несколько другого, и резкая смена регистров, конечно, возможна, но к ней всегда подготавливают. Даже вывод зрителя из «зоны комфорта» должен быть по меньшей мере ожидаемым. Элементы разных жанров могут пересекаться в одном произведении, но вычленять жанр из прокатных хэштегов «триллер», «комедия», «драма», «криминал», «фантастика» не стоит: у каждого стоящего фильма есть жанровый каркас. Автор может пересобирать эту конструкцию, подвергать ее сомнению, добавлять нечто новое в ее устройство, экспериментировать, но всегда отталкиваясь от конкретной модели.
Из-за пренебрежительного отношения к «штампам», которые в случаях, когда автор или фильм нам нравится, мы считаем приметой «стиля», и бесимся с того же, если автор или фильм нам не близки, — нам часто кажется, что жанр — это про потоковую продукцию, контент. А из-за того, что большая часть кинотеории на эту тему попросту не переведена на русский, в наших краях складывается жуткая ситуация, когда даже в киноиндустрии никто не понимает, что такое жанровое кино на самом деле. И в большей части тех учебных заведений, где изучают историю и теорию кино, а также в профильных киновузах и киношколах жанровую теорию практически не изучают. Из хорошего: в 2022 году СПбГИКиТ утвердил учебную программу по изучению жанрового кино, предназначенную пока только для драматургов и киноведов.

Виноваты звезды
Самая, пожалуй, большая проблема с «неправильным» восприятием жанрового кино: увлекательность, зрелищность, эмоциональное подключение к фильму стали считаться чем-то зазорным для действительно «умного» кино. Взять хотя бы культ Кристофера Нолана или Дени Вильнева: не отменяя заслуг и талантов постановщиков, трудно отделаться от мысли, что серьезное к ним отношение многих зрителей обусловлено «благородной скучинкой» их кино, размытой жанровой принадлежностью, тяжелой поступью Больших Авторов.
Чтобы современную фантастику или триллер приняли за что-то серьезное, необходимы долгие паузы между репликами, минимализм в работе художественно-постановочного цеха, приглушенные тона, назойливые отсылки к заслуженной классике мирового кино («смотрите, это было у Кубрика»), демонстративная холодность самих авторов в общении с публикой и в отношении к современному кино. Только кинопленка, только классика, только хардкор!
И что с этим делать?
Не поверите, но смотреть больше хорошего и разного кино. Например, в старых-добрых «Чужих» кинотеоретики выискивают то деколониальное, то феминистское высказывание, то концепцию кино. И при этом сами фильмы — яркие жанровые работы.
Пауль Верхувен, снявший в Голливуде «Вспомнить все», «Робокопа», «Основной инстинкт» и другие великие фильмы, смог сохранить и свое авторское видение (например, в «Звездном десанте» очевидна издевка над жанром военного фильма, американским милитаризмом и механизмами работы масс-медиа), и сделать драйвовые зрительские хиты, заскучать на которых невозможно.
Список можно длить бесконечно: Акира Куросава, Альфред Хичкок, Фриц Ланг, Джон Форд, — почти все великие классики работали «в жанре», делая при этом, мягко говоря, нескучное и неглупое кино. Это как в жизни: мрачный и неразговорчивый — не значит «умный».