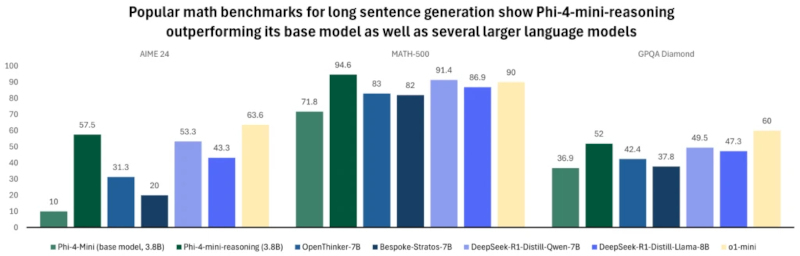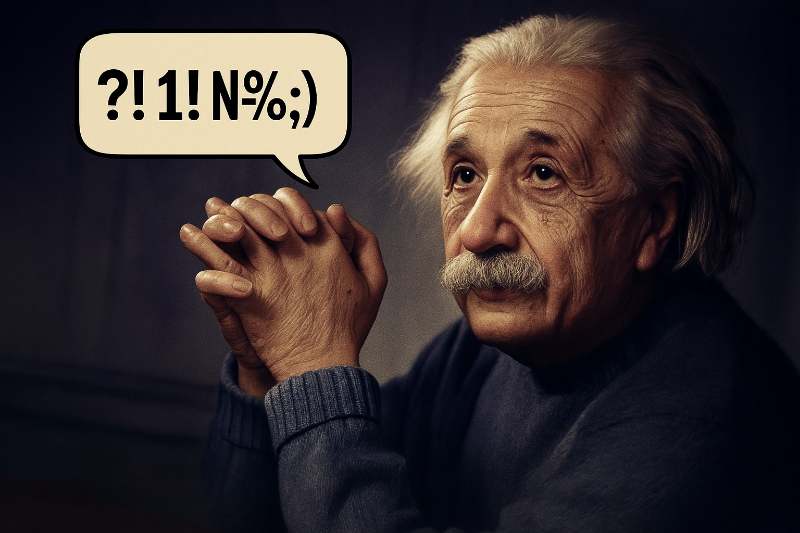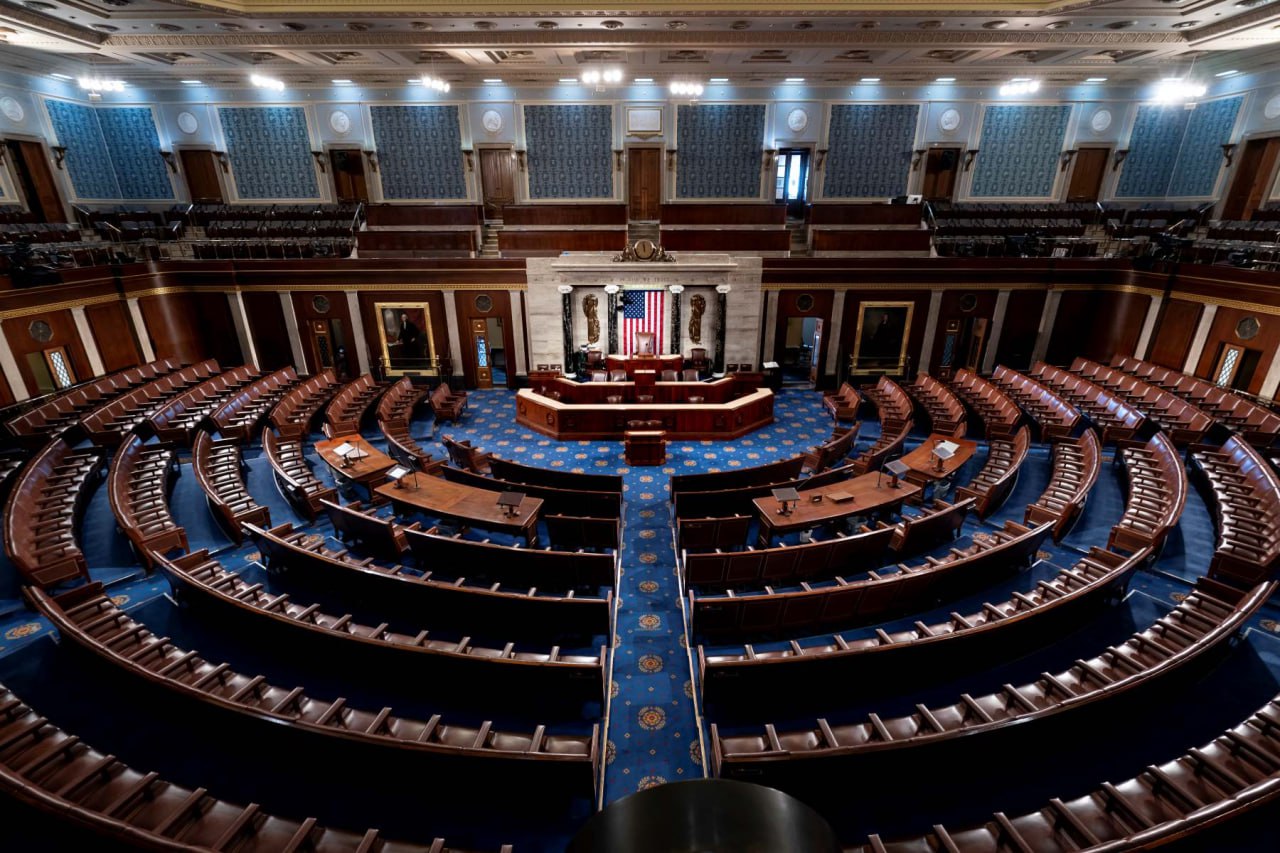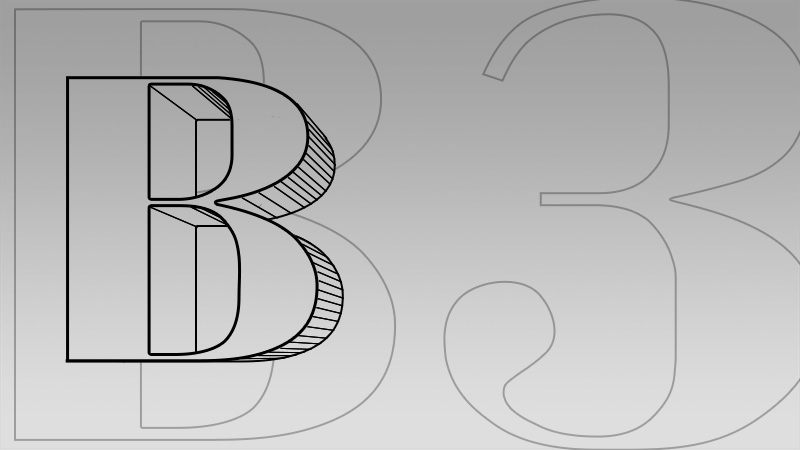Множественность суверенности, или О бритве Оккама в российской политике
Одной из ключевых характеристик государства, согласно любому учебнику, является суверенитет. Но само понятие суверенитета, с одной стороны, достаточно очевидно для непосредственного восприятия, а с другой – постоянно ускользает от простого и чёткого определения. Что мы сейчас подразумеваем под суверенитетом? Явно не то, что основоположник данного понятия французский мыслитель Жан Боден, называвший суверенитетом «абсолютную и вечную […]

Одной из ключевых характеристик государства, согласно любому учебнику, является суверенитет. Но само понятие суверенитета, с одной стороны, достаточно очевидно для непосредственного восприятия, а с другой – постоянно ускользает от простого и чёткого определения.
Что мы сейчас подразумеваем под суверенитетом? Явно не то, что основоположник данного понятия французский мыслитель Жан Боден, называвший суверенитетом «абсолютную и вечную власть в государстве», рассматривая в качестве её проявлений право принимать и упразднять законы, быть верховным судьёй, назначать и смещать верховных магистратов, объявлять войну и заключать мир, миловать осуждённых[1]. Нетрудно заметить, что в самой терминологии приведённого перечня ощущается присутствие даже не средневековой, а античной традиции, но содержание суверенитета помещено Боденом в волнующий его контекст преодоления зависимости государства от влияния папы римского. Соответственно, и концепт суверенности рассматривается как способ объяснить необходимость установления в государстве верховной власти, которая не зависела бы от воли находящегося извне религиозного лидера.
История суверенитета: от религиозной автономии к политическому парадоксу
Важной вехой на пути превращения суверенитета в принцип международной политики считается Вестфальский мир, который завершает Тридцатилетнюю войну, устанавливая нормативную возможность веротерпимости в Европе и тем самым пределы внешнего вмешательства во внутренние дела государства. Означает ли это оформление системы международных отношений на основе принципа суверенности?
Алексей Куприянов справедливо отмечает: «Впервые идея о сообществе суверенных государств как основе системы международных отношений появилась не ранее середины XVIII века, спустя столетие после заключения Вестфальского мира. Эта идея не сразу стала доминирующей и пережила ещё не одну трансформацию (к примеру, в XIX веке концепция суверенитета тесно увязывалась с идеей “цивилизованности”), и её окончательное утверждение относится к середине XX века. Именно тогда, на волне деколонизации и массового появления на политической карте неевропейских игроков, была полностью признана та концепция суверенитета, которую мы по иронии судьбы называем “вестфальской”»[2].
Иначе говоря, Вестфальский мир нельзя расценивать как закрепление принципа суверенности, поскольку даже тому определению, которое когда-то дал Боден, противоречило ограничение прав германских правителей хотя бы по отношению к подданным, религиозную идентичность которых они отныне не могли подвергать сомнению.
XVIII век привнёс в понимание суверенитета ещё один спорный момент, а именно – кто является суверенным субъектом? Для Бодена очевидным казался ответ, что суверенным может быть монарх – не как конкретный физический субъект, а как символическая фигура, реализующая потенциал управления при некоторых ограничениях, происходящих не от внешних сдерживающих сил, а от параметров естественного права. Но Жан-Жак Руссо, формулируя понятие народного суверенитета, существенно меняет акценты в восприятии источника и субъекта суверенности. Для него в таком качестве может выступать только народ, делегирующий определённую часть полномочий политическим представителям. Нетрудно заметить, что именно эта мысль, по сути, отождествляющая народ как субъект суверенитета и государство как институциональное выражение пределов распространения его суверенной воли, оказала существенное влияние на последующую трактовку суверенности (вплоть до упоминания в статье 3 Конституции РФ).
XIX век актуализировал ещё одну значимую для анализа суверенности проблему – а все ли государства обладают таким качеством? Показательно, что вопрос был поставлен в условиях кризиса классического цивилизационного подхода, который исходил из естественного применения принципа суверенности исключительно к цивилизованным сообществам, отказывая в нём тем обществам, которые находились на стадии «дикости» или «варварства» (неважно, относились ли эти стадии к предыстории современных «цивилизованных» обществ или выступали характеристикой состояния современных неевропейских государств).
Даже Николай Данилевский, много сделавший для перехода от линейно-стадиального понимания цивилизации к теории локальных цивилизаций, сохранил в книге отголосок подобного понимания: «Нет ни одной цивилизации, которая бы зародилась и развилась без политической самостоятельности, хотя, достигнув уже известной силы, цивилизация может ещё несколько времени продолжаться и после потери самостоятельности, как видим на примере греков. Явление это, из которого нет ни одного исключения в истории, понятно, впрочем, и само по себе. Та же причина, которая препятствует развитию личностей в состоянии рабства, препятствует и развитию народностей в состоянии политической зависимости, так как в обоих случаях индивидуальность, имеющая свои самостоятельные цели, обращается в служебное орудие, в средство для достижения чужих целей»[3].


Как говорилось выше, ключевой вехой в закреплении принципа суверенитета по отношению к любому государству (что и является условием его восприятия в качестве базовой характеристики международных отношений) оказался процесс деколонизации, сопровождавшийся созданием десятков новых государственных образований. Только вчера бывшие частями вполне суверенных (по всем разработанным в европейской традиции критериям) империй, новые государства сумели закрепить за собой новый статус. Он не гарантировал фактическое соблюдение их прав, но обеспечивал возможность публичной апелляции к мировому сообществу по поводу потенциальных нарушений.
Но даже распространение принципа суверенитета на максимальное число государственных образований оказалось не способно решить одно фундаментальное противоречие, которое было отмечено ещё Боденом в самой природе суверенной власти. В конце XX века итальянский философ Джорджо Агамбен назвал его «парадоксом суверенитета». Суть он формулирует так: «Если суверен, согласно определению Карла Шмитта, является тем, кто имеет законные полномочия объявлять чрезвычайное положение и приостанавливать таким образом действительность юридического порядка, парадокс суверенитета может быть сформулирован таким образом: “суверен одновременно находится внутри и вне [юридического] порядка”».[4] С одной стороны, он учреждает этот порядок, объявляя, что вне его ничего невозможно, с другой – сам остаётся вне установленных правил, сохраняя возможность изменить их в силу собственного статуса. Но если для самого Агамбена формулирование парадокса становится основанием для вопрошания о логике его преодоления в человеческих поступках, то с точки зрения политической мысли сохранение подобной двусмысленности становится «бомбой замедленного действия», заложенной под ту систему международных отношений, которая провозглашает именно суверенность своим незыблемым основанием. Ещё раз стоит подчеркнуть: речь не про фигуру конкретного деятеля, а про суверена в гоббсовском понимании – того, кто воплощает в себе государство.
В чём опасность парадокса? В его неразрешимости, по крайней мере, на теоретическом уровне. Если суверен полностью возвышается над юридической системой, она перестаёт что-либо стоить с точки зрения государственного строительства, превращаясь в перечень необязательных рекомендаций, которые могут быть заменены в любой момент прямо противоположными. Отсюда опасность диктатуры, но не в трактовке Шмитта, а в самом примитивном значении. Принцип суверенности, возведённый в абсолют, становится крахом международных отношений, поскольку предполагает формулирование каждым государством на международной арене собственных правил игры, не согласовываемых с остальными акторами. Но убыточна и обратная стратегия – попытка подчинить суверенитет определённым правилам чревата тем, что невозможность преступить через эти правила в ситуации, требующей «чрезвычайного положения» (ещё один любимый образ Агамбена), может стать концом существования суверенного государства.
Суверенитет в российской публичной политике: от единства к множественности
Распад Советского Союза в соответствии с логикой распада любой империи привёл к образованию полутора десятков государств, которые (с различной степенью успешности) обрели статус суверенных. Разумеется, подобный статус был закреплён и за Россией, что дополнительно легитимировалось признанием правопреемственности по отношению к Советскому Союзу.
Отношение к принципу суверенности в постсоветской России не отличалось активностью в политическом использовании и применении. С одной стороны, в Конституции 1993 г. термин «суверенность» встречается уже в преамбуле («суверенная государственность России»), активно сопровождая всю первую главу Конституции (ст. 3: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ»; ст. 4: «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию»). С другой стороны, в центре политической риторики в это время находились другие категории, также отражённые в нормативных актах, например, «демократия» и «правовое государство». Показательно, что даже в Мюнхенской речи 2007 г., которая считается вехой внешнеполитического разворота России от Глобального Запада, президент России Владимир Путин использует термин «суверен» лишь тогда, когда говорит не о России, а о конфигурации однополярного мира: «Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри»[5].
В выступлении президента РФ на всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2014» (после событий весны 2014 г.) идея суверенности получает развитие по отношению к западным странам, но уже в контексте конфронтации с мировым порядком: «Если сегодняшние лидеры Европы далеки от того, чтобы проявлять свою самостоятельность, то это не значит, что тенденция пропала. Всё равно в обществах такая тенденция к независимости, к суверенитету, к собственному мнению, к отстаиванию собственных позиций нарастает и будет нарастать в будущем. Жалко только, что не все это замечают из наших коллег на Западе»[6].
Усиление политического противостояния с Западом привело не только к ужесточению публичной риторики, но и к определённым институциональным изменениям. Постановлением Совета Федерации 172-СФ от 14 июня 2017 г. создана Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации (постановлением 26-СФ от 1 февраля 2023 г. она была лишена статуса временной). Деятельность этой комиссии предполагала реализацию четырёх основных задач:
а) сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации;
б) подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации;
в) мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в Российской Федерации;
г) мониторинг состояния международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, подготовка предложений по его совершенствованию[7].
В публичном пространстве российской политики вопрос о выделении различных видов суверенитета поднимался неоднократно, но в последние годы приобрёл определённую системность. Ещё 9 июня 2022 г. на встрече с предпринимателями российский президент сформулировал наличие трёх обязательных аспектов суверенитета: военно-политического, экономического (технологического) и общественного. Под военно-политическим суверенитетом понимается способность «быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность»[8]. Экономический суверенитет охарактеризован следующим образом: «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого. В критических технологиях, в том, чтобы обеспечивать жизнеспособность общества и государства»[9]. Наконец, под общественным суверенитетом понимается «способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории»[10]. Схожее деление суверенитета изложено главой государства и на прямой линии с гражданами 14 декабря 2023 г.: «Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета»[11].
Понятно, что такая дифференциация видов суверенности далека от научной классификации, но этого и не требуется от публичной политической риторики. Суверенитет выступает здесь как понятие публичного дискурса, в рамках которого научные и сугубо политические трактовки оказываются в диалектической взаимосвязи.
Деятельность комиссии выразилась в появлении целого ряда докладов, раскрывающих динамику угроз государственному суверенитету, а попутно предлагающих целый ряд любопытных инноваций относительно трактовки самого понятия и его применения к различным общественным процессам. Хотя в названии комиссии Совета Федерации суверенитет назван государственным, дальнейшая аналитическая работа способствовала выделению новых разновидностей суверенитета.
Так, уже в докладе 2018 г., сделанном по итогам прошедших тогда президентских выборов, появляется определение вмешательства во внутренние дела России: «Не основанная на общепризнанных принципах международного права и международных договорах РФ деятельность со стороны иностранных государств, юридических и физических лиц, их объединений, имеющая целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, её внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти»[12]. В том же докладе даже в названии фиксируется появление особого вида вмешательства, объектом становится электоральный суверенитет.
Другая разновидность суверенитета – культурный суверенитет – постепенно проявляется в базовых нормативных документах с 2023 г., когда указом президента РФ № 35 от 25.01.2023 г. утверждаются «Основы государственной культурной политики», представляющие собой обновленный вариант документа, впервые утверждённого ещё президентским указом № 808 от 24.12.2014 года. Показательно, что в «Основах государственной культурной политики» (версия 2014 г.) суверенитет упоминается только один раз, причём с прилагательным «государственный»: «Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны»[13].
В версии 2023 г. появляется определение культурного суверенитета: «“культурный суверенитет” – совокупность социально-культурных факторов, позволяющих народу и государству формировать свою идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищёнными от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранять историческую память, придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей»[14]. Отдельно указывается, что «ряд недружественных государств, международных организаций и транснациональных корпораций, иностранных неправительственных организаций, а также различные экстремистские и террористические организации ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета Российской Федерации, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе способствующую обострению конфликтов в глобальном информационном пространстве»[15]. В подобной трактовке культурный суверенитет включается в единое понятийное пространство с категориями «традиционные духовно-нравственные ценности», «российская идентичность», «историческая память».
Закрепление новой формы суверенности происходит на уровне Комиссии Совета Федерации, поскольку в докладе «Об особенностях защиты государственного суверенитета России в 2022–2023 годах», опубликованном 21 июня 2023 г., высказывается следующая мысль: «Понятие “государственный суверенитет” многомерно. Оно включает далеко не одни лишь формально-правовые, политические элементы, не только проецируется на проблематику производственно-техническую и финансово-экономическую, но и подразумевает суверенитет информационный, культурный, духовно-нравственный»[16]. Далее приводится апелляции к «Основам государственной культурной политики» и конкретно – к категории «культурный суверенитет».
Вообще, духовно-нравственная сфера применения категории «суверенитет» отличается повышенным многообразием проявлений суверенности не только в политической, но и в научной среде. Ещё в 2017 г. появилась коллективная монография, в которой предпринята попытка закрепить для обозначения подобных угроз понятие «цивилизационный суверенитет»[17]. Параллельно с этим доктор исторических наук Григорий Герасимов предложил понятие «исторический суверенитет»: «Исторический суверенитет включает право государства на самостоятельную трактовку своего прошлого и признание верности этой трактовки со стороны других государств и обществ»[18].
«Концепция внешней политики Российской Федерации», утверждённая 31 марта 2023 г., не содержит в себе новой формы суверенитета, но тоже фиксирует определённый аспект, почти дословно совпадающий со «Стратегией национальной безопасности РФ». В «Стратегии» провозглашается следующее: «На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию Российской Федерации жизненно важное значение для нашей страны приобретают укрепление её суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации»[19]. В «Концепции» в качестве одного из национальных интересов фиксируется «защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия»[20].


Незабытым на нормативном уровне оказался и технологический суверенитет. Принятая в 2023 г. «Концепция технологического развития на период до 2030 года» зафиксировала в качестве одного из ключевых понятий определение технологического суверенитета: «“технологический суверенитет” – наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы»[21].
Подобное словоупотребление заставляет поставить методологически важный вопрос о функциях и политическом значении увеличения числа суверенитетов как терминов, характеризующих политический строй современной России.
Мы видим два параллельных процесса, которые могут показаться взаимоисключающими, но на самом деле дополняют друг друга. С одной стороны, происходит умножение числа суверенитетов. Вместо классического деления на «внешний» и «внутренний» в качестве критерия выделения различных «суверенитетов» появляется условное членение в соответствии со сферами общественной жизни – военно-политический, экономический, технологический и общественный. С другой стороны, происходит размывание самого понятия, поскольку, как выясняется, суверенитетом можно назвать практически любое социально-политическое явление, заменяя привычный набор терминов более актуальным и соответствующим тренду.
Что означает «множественность суверенности»?
В увеличении многообразия суверенитетов можно увидеть три важных аспекта. Во-первых, само членение суверенитета на различные области применения автоматически означает косвенный отказ от его чрезмерной абсолютизации, стремление обозначить ключевые блоки, которые становятся приоритетными в сфере отстаивания национальной независимости. У такого обозначения есть обратная сторона – то, что не определено как ключевой вид суверенитета, остаётся пространством, где возможна некоторая степень открытости во взаимодействии с другими международными акторами. По крайней мере, это пространство не маркируется как зона особой заботы государства по обеспечению собственной безопасности.
Татьяна Романова поясняет такой принцип на примере использования РФ и Евросоюзом понятия «технологический суверенитет»: «Обе стороны ищут оптимальное сочетание открытости и закрытости, экспериментируя с категориями “экономический” или “технологический” суверенитет»[22].
Технологический суверенитет (невзирая на достаточно долгую историю понятия в мировой науке[23]) становится удачной заменой чересчур громоздкого понятия «импортозамещение», выступая в качестве реакции на чрезмерную глобализацию технологических цепочек, способствующую снижению национального контроля над ключевыми узлами данных цепочек. Технологическому суверенитету (как и суверенитету вообще) свойственен определённый парадокс, который Тимур Гареев формулирует следующим образом: «Свобода торговли ведёт к технологическому суверенитету, который призван ограничить свободу торговли»[24]. Иначе говоря, достижение технологической и экономической автономии от мирового рынка становится возможным только на основании открытого доступа технологий и ресурсов на определённый рынок (можно вспомнить по этому поводу технологический рывок СССР в 30-е годы XX века, который во многом был связан с широкими поставками зарубежного оборудования).
Формулируя для себя «зоны обязательной суверенности», государство автоматически обозначает параметры того вмешательства, которое оно будет рассматривать как недопустимое, но за пределами этих зон возможность относительной открытости (даже в условиях публичного декларирования противоположного) становится предметом международного торга между политическими акторами. С этой точки зрения три сферы суверенитета, которые неоднократно обозначены в российской публичной политике (военный, экономический/технологический и общественный), требуют чёткого определения, поскольку от этого зависят границы допустимого в поисках консенсуса.
Во-вторых, превращение суверенитета в ключевое понятие публичной политики для характеристики российского государственного устройства делает его разновидностью символического капитала (в терминологии Пьера Бурдьё).


Вокруг суверенитета разворачивается конкуренция различных политических элит за долю символического капитала. Если суверенность становится краеугольным камнем, лежащим в основании современного политического порядка, важно быть причастным к отдельным кирпичикам, в совокупности и составляющим данный монолит. В чём это проявляется? Не только в создании нормативных документов, активно закрепляющих всё новые и новые формы суверенитета, но и в обновлении публичной риторики отдельных политических деятелей и институций, начинающих претендовать не просто на участие в обеспечении безопасности страны, но и на закрепление за собой некоей зоны данной безопасности.
Это можно отнести и к технологическому суверенитету, и к военно-политическому. Но, пожалуй, наиболее дискуссионным оказывается то самое поле (которое в зависимости от политических предпочтений автора может именоваться идеологическим или мировоззренческим), где принцип суверенности проявляется по отношению к механизмам и способам порождения коллективной идентичности. Здесь наступает ситуация лавирования между пониманием суверенитета как аккумулирования всех властных ресурсов и трактовкой конституционного понимания недопустимости государственной идеологии. Возникает целый комплекс понятий – цивилизационный суверенитет, исторический суверенитет, которые разрабатываются отдельными институциями или авторскими коллективами в качестве не только продукта научного исследования, но и претензии на свой сегмент символического поля. Показательно, как стремление ранней постсоветской элиты освоить термин «демократия», пройдя через промежуточную стадию «суверенной демократии», сосредоточилось теперь на суверенности как на ключевом понятии, причастность к которому уже в состоянии обеспечить относительную устойчивость в имеющемся статусе, если не способствовать его повышению.
Есть и третий аспект – пожалуй, наиболее теоретический и спорный. Само по себе умножение аспектов суверенности, неважно, чем оно объясняется на уровне конкретных решений, становится интересным вариантом того, как можно попытаться разрешить агамбеновский «парадокс суверенитета». Тонкую «золотую середину» между абсолютизацией власти и отказом от неё на основании соблюдения универсальных норм можно попытаться нащупать, если вместо единого суверенитета мы получаем многообразие отдельных форм и видов. С одной стороны, они в совокупности обеспечивают единство власти как гарантию безопасности государства и граждан. С другой – создают гораздо более гибкую структуру соотнесения собственных интересов с интересами других суверенных акторов.
В итоге задача обеспечения государственного суверенитета не сводится к выделению его аспектов, являющихся наиболее существенными в контексте многочисленных политических, экономических и культурных связей. Этот процесс представляет собой поле символической борьбы, на котором различные государственные и общественные акторы используют стратегии присвоения суверенности (в формате публичной репрезентации того или иного типа суверенитета). Это явление, с одной стороны, можно рассматривать как нарушение принципа «бритвы Оккама», запрещающего умножать сущности без необходимости, а с другой – как важную особенность российского политического пространства, страдающего от дефицита символически значимых понятий и образов.
Автор: Даниил Аникин, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН
Статья подготовлена в рамках темы НИР «Ценности суверенитета, великой державы и империи как составляющие российской идентичности и ресурс социально-политического развития», реализуемой в Институте научной информации по общественным наукам РАН по итогам отбора научных проектов, поддержанных Министерством науки и высшего образования РФ и Экспертным институтом социальных исследований.