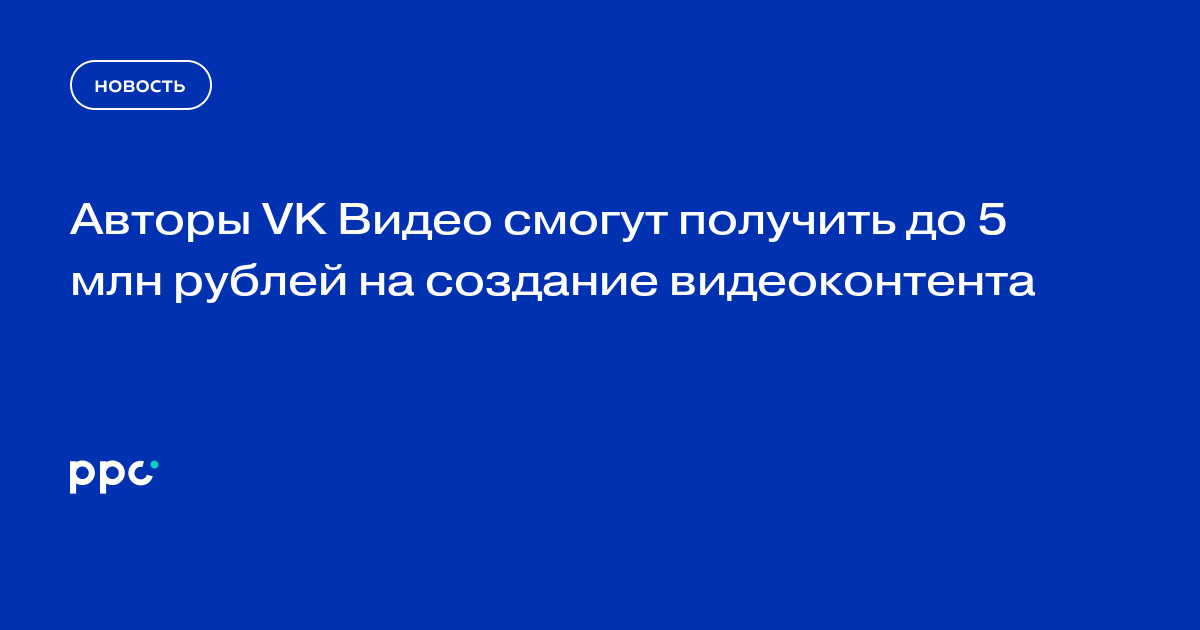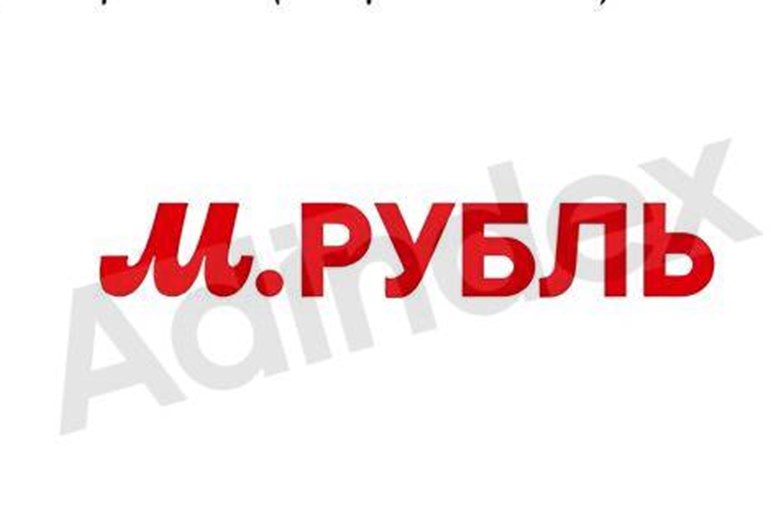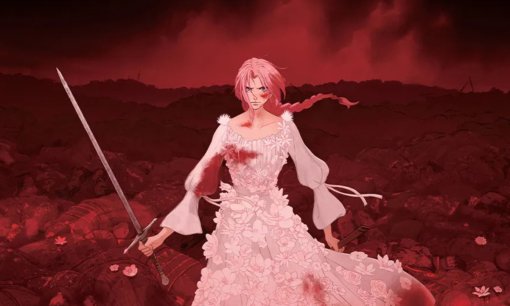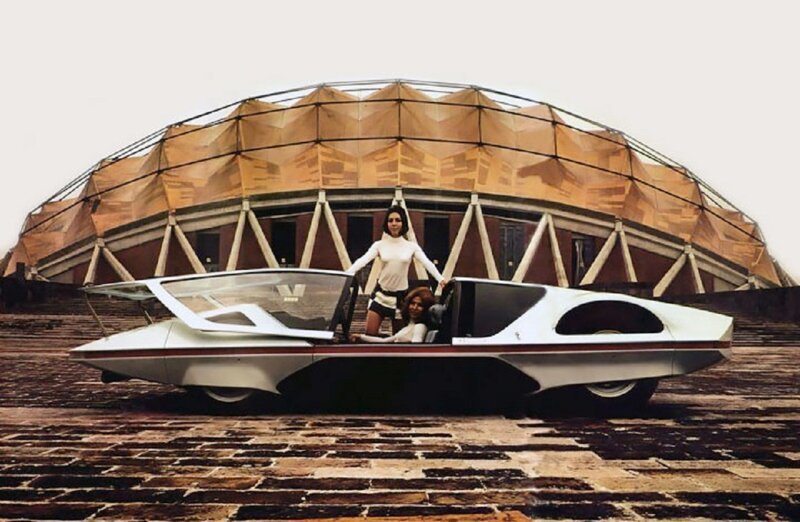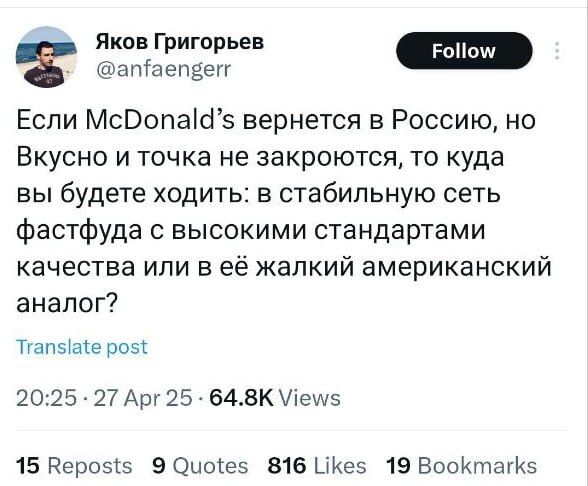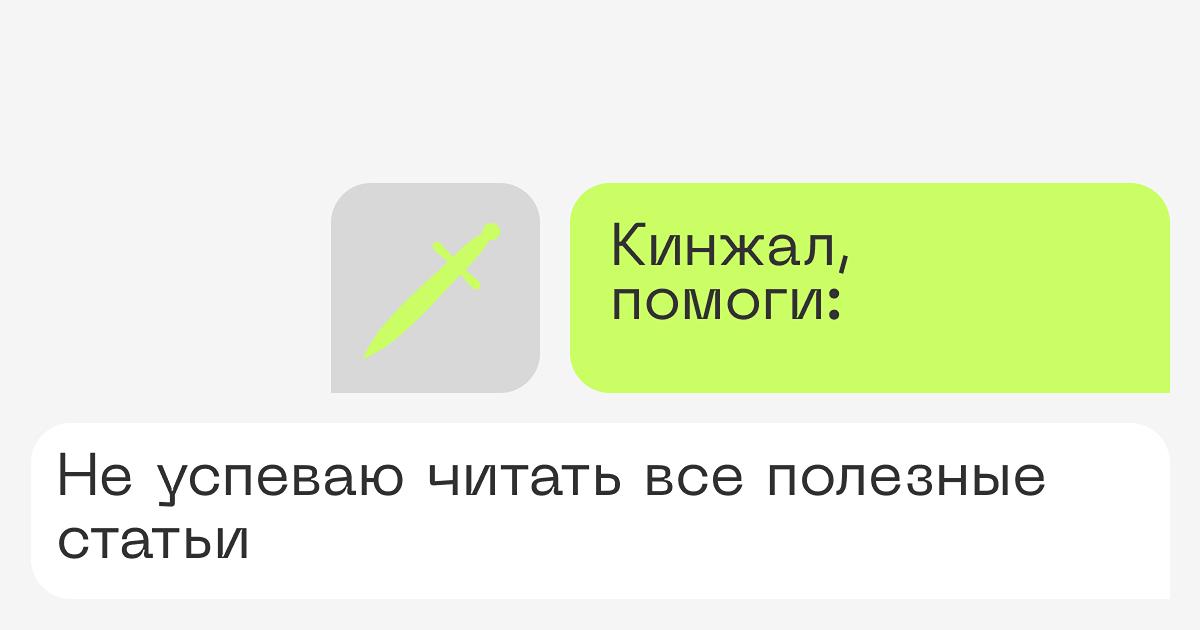«В вольер с приматами мы смотрим, как в зеркало»: почему старшеклассникам важно ходить в зоопарк. Советы и наводки учителя биологии
Андрей Козлов преподает биологию в московской школе 1748. Сейчас он участвует в проектной деятельности школьников, а занятия с ними проводит в Московском зоопарке. Мы попросили Андрея Валентиновича рассказать, как настоящие, живые проекты могут помочь при поступлении в вуз.

Андрей Козлов преподает биологию в московской школе 1748. Сейчас он участвует в проектной деятельности школьников, а занятия с ними проводит в Московском зоопарке. Мы попросили Андрея Валентиновича рассказать, как настоящие, живые проекты могут помочь при поступлении в вуз.
«Нейросеть за вас в зоопарк не сходит, Википедия — тоже»
Детям я всегда говорю: учиться нужно в школе и сразу после нее. Научные успехи не терпят промедлений. После перерыва даже в год учиться запускать ракеты в космос очень тяжело — уже совсем по-другому работает мозг. И чем мы моложе, тем лучше он заточен под исследовательскую деятельность.
Чем раньше мы начинаем искать подробности и причины природных процессов, тем для всех лучше. Даже с точки зрения успеха и бонусов. Мы выявляем идеи и интересы детей еще в начальной школе, потом обрамляем их в научные рамки и даем возможность сделать проект, с которым они сначала выступят на школьной конференции, а при поступлении в вуз воспользуются им и как индивидуальным достижением, и как основой для научных изысканий уже университетского уровня.
Для подобных работ Московский зоопарк, конечно, находка. Нам всегда рады местные работники, и там есть что посмотреть и поисследовать
За этим мы с медицинским классом и ходим сейчас туда на занятия. Одна из моих учениц, например, несколько лет назад делала проект об Аме — местной однорукой горилле. 10 лет назад, когда ей было полгода, отец по сути оторвал ей руку. Это грустная история, но вообще ценная с точки зрения науки и довольно вдохновляющая. Потому что для Амы с ее особенностью удалось создать комфортные условия — она до сих пор живет в зоопарке, хорошо ладит с другими гориллами.
За тем, как Ама живет и какую помощь получает от киперов, мы и следили на протяжении года. Я и сейчас очень советую сходить к вольеру, где живет Ама. Потому что недавно соседка Амы, горилла Кира, стала мамой. Причем детеныш появился у одной, а материнские чувства обострились у обеих. И очень забавно наблюдать, как Ама, такая, знаете, всеобщая нянька, пытается расположить к себе маму малыша, ищет ее внимания. Пока у нее, правда, мало получается — Кира оказалась очень тревожной мамой и вообще не отпускает от себя детеныша. Даже спит с ним в обнимку. В любом случае это очень нестандартная ситуация — и счастлив тот, кто застанет какой-нибудь ее неожиданный поворот.
А теперь от лирики к прозе. Зачем, кроме как из любви к животным, смотреть на горилл? Моя ученица написала об Аме работу, подала ее на конференцию «Наука о жизни». Стала лауреатом. В этом году это достижение попало в ее портфолио и даст в ряде вузов дополнительные баллы при поступлении.
Важно: это не ночи за типовыми заданиями, а живая работа, исследование настоящей, интересной проблемы
А результат в количественном исчислении от одного и другого примерно тот же. В случае с дополнительными баллами за научную деятельность даже больше гарантий и определенности.
Если говорить конкретно о естественно-научном треке, то работы, которые мы делаем в зоопарке, смотрятся на конференциях гораздо более выигрышно. В первую очередь потому, что их нельзя списать или как-то фальсифицировать. Ты либо ходишь методически в зоопарк и часами сидишь перед вольером, общаешься с ветеринарами и киперами, либо… другого варианта не будет. Нейросеть за вас в зоопарк не сходит, Википедия — тоже.
«Жизнь лучше смерти, и всё тут»
На тему того, этично ли держать животных в неволе, дети, как правило, не рефлексируют. Но если начнут — надо, конечно, иметь подготовленную аргументацию. Был такой известный человек Джеральд Даррелл, который в прошлом веке создал на острове Джерси в Англии частный зоопарк.
О том, как он находил в Африке обитателей для этого зверинца, Даррелл написал множество книг: «Путь кенгуренка», «Зоопарк в моем багаже», «Моя семья и другие звери» — лишь некоторые из них. И в этих книгах довольно четко видно, что животное попадает в руки человека лишь тогда зачастую, когда ему грозит гибель — от сильного ранения или, например, от паразитов.
Это, конечно, не освобождает нас от дилеммы. Кто-то готов долго спорить о том, какая участь для животного лучше — жить в зоопарке или умереть в дикой природе, то есть закончить жизнь по ее суровым законам.
На мой взгляд, конечно же, животному лучше в зоопарке. Жизнь лучше смерти, и всё тут. Да и культурно для наших людей эта дилемма была разрешена, когда на экраны вышел мультик, где крокодил Гена ходил в зоопарк на работу.
Плохо животным было в старинных зверинцах, где их держали в тесных клетках, в которых стояла только миска с водой. В отсутствие укрытий и хоть каких-то занятий звери просто сходили с ума. Но всё изменилось, когда большой знаток содержания животных в неволе Карл Гагенбек придумал заменить клетки на просторные вольеры с разнообразным ландшафтом.
И что в итоге делается сейчас? Зоопарк имитирует естественную среду и распорядок для животных. Они ведь в естественной среде чем занимаются большую часть времени? Правильно, ищут еду, добывают ее. И люди, помимо того чтобы заменять клетки вольерами с ландшафтом, еще и искусственно затрудняют путь животных к пище, чтобы всё было как в дикой природе.
Когда пойдете в зоопарк, обратите внимание, чем усеян пол в вольере с крупными приматами — гориллами или орангутанами, например. Там лежит какая-то странная на первый взгляд шелуха или какие-то стружки. А это «древесная шерсть», элемент обогащения среды.
Это элемент обогащения среды — им утром вывернули на пол какое-то количество орехов и мелких семян, которые довольно трудно добыть в природе, и приматы целый день при деле — ищут лакомства вместо того, чтобы есть уже очищенные орехи из миски. Морковь, сельдерей, огурцы размещают на решетке, в верхней части вольера. Достать оттуда пищу — то еще развлечение.
Белых медведей «развлекают» тем, что рыбу дают не просто так, а вмороженной в лед — чтобы поесть, нужно этот лед сперва искрошить зубами. А куниц (и прочих куньих), в дикой природе чрезвычайно активных, занимают проблемными кормушками — чтобы достать еду из них, нужно двигать шарики в полостях, повернуть должным образом конструкцию или вовсе подлезть под нее.
«Дети с большим удовольствием ухаживают за камерунскими козами»
Дети всё это видят и сами участвуют в обогащении среды — мои ученики недавно мастерили для зверей проблемные кормушки. Кто-то даже проект взялся об этом писать, на конкурс.
А с седьмого класса мы, как школа с естественно-научной вертикалью, участвуем в программе «Юный кипер» — водим детей на хозяйственный двор детского зоопарка. Там они с большим удовольствием ухаживают за камерунскими козами: меняют подстилки, готовят им корм. Дети недавно очень удивились тому, что в рацион всех копытных идут, по сути, леденцы — твердые минералы, которые козам нужно лизать для здоровья и метаболизма.
В совершенный восторг дети приходят, когда начинают кормить птиц. Они заранее делают для них мешанку из зерна, моркови, травяной муки, гаммаруса, чеснока и еще много чего, а потом идут с ней в вольер с птицами. Расставляют там кормушки, а порой находят свежеснесенные птицами яйца.
Всё это происходит в рабочие часы, и посетители, стоящие по ту сторону вольера, очень удивляются разгуливающим среди диких птиц детям. А дети получают удовольствие от того, что на них смотрят, чувствуют свое привилегированное положение.
«Сейчас мы с учеником делаем работу по социальным контактам ластоногих»
Я не знаю, сколько раз я был в Московском зоопарке. Это как школьника спросить, сколько раз он ходил в школу. В какой-то момент сбиваешься со счета. Но при всем при том я каждый раз открываю на этих 20 гектарах что-то новое. И я, собственно, не один такой.
Я вот в последнее время зачастил в павильон с ластоногими. Там живут моржи, морские котики, тюлени и много кто еще. Причина — сейчас мы с учеником делаем работу по роли социальных контактов в жизни дальневосточных нерп (ларг) и морского льва (сивуча). Эта работа морально и этически сложнее, чем кажется.
Если вы видите в зоопарке любого ластоногого — у него наверняка один из двух жизненных сценариев. Его либо забрали из цирка, где он содержался в ужасных условиях (приемы дрессуры, которые применялись к нему, были далеки от идеала). Либо его вынуждены были изъять из дикой природы детенышем — мама погибла, ударился о скалы, попал к рыбакам, например, в Балтийском море. В общем, оба варианта для животного весьма травмирующие. И мы сейчас смотрим, как особи, попавшие в зоопарк по этим двум причинам, взаимодействуют друг с другом и посетителями.
Отдельно мы исследуем феномен того, что ларги, в дикой природе будучи одиночками, пройдя через негативный опыт и очутившись в зоопарке, становятся групповыми животными.
Главное — наблюдать не только милые мордашки, но и углубляться в их истории, следить за их взаимоотношениями с сородичами. На мой взгляд, по-настоящему зоопарк знает тот, у кого в багаже множество подобных наблюдений.
На данный момент мы с ребятами провели в зоопарке семь занятий. Они, безусловно, уже хорошо ориентируются на территории, знают примерно, где у нас ластоногие живут, где капибары, где львы, а где — насекомые. Мы уже знаем много историй местных обитателей. Но это только вершина айсберга, конечно. Всего об этом месте и за год не узнаешь.
«Как ни крути, в вольер с приматами мы смотрим, как в зеркало»
Если говорить о фаворитах детей, то в топе у них, разумеется, крупные животные, приматы и капибары. Насчет приматов всё довольно логично. Как ни крути, в вольер с приматами мы смотрим, как в зеркало, — даже на подсознательном уровне замечаем в их поведении пересечения с тем, как сами себя иногда ведем. Это помогает познавать себя — и биологически, как представителя вида, и психологически, как личность. Приматам, кстати, тоже очень интересно за нами наблюдать.
Нетрудно заметить: если орангутаны и гориллы видят, что у вольера столпился народ, — они к нему выходят. Но не чтобы покрасоваться, а чтобы посмотреть на наши умные лица. Они в них что-то находят. Когда замечаешь это, совершенно по-новому начинаешь понимать зоопарк.
Сперва кажется, что это шоу для людей только. А потом видишь, что это шоу и для них — тех, кто по ту сторону стекол и оград
Еще внимание привлекают энергичные, подвижные животные. Мы их даже как-то больше уважаем — потому что они проявляются, активно себя позиционируют. Те же куньи, которых мы уже упоминали.
Конечно, бывают из этого исключения. Например, у вольера с ленивцем всегда толпа. Но это не потому, что он харизматик. А потому, что он редко показывается людям, а если и показывается — его непросто заметить. Все стоят и смотрят в гущу лиан, понимая, что там кто-то есть, но кто и где — неясно. Философский, на самом деле, опыт.
«Если я вижу манула, я всегда веду детей к нему. Он же шикарный!»
Вообще, в зоопарке очень живая экспозиция. В прямом смысле — понятно, но и в переносном тоже. Это заметно, если сравнить зоопарк с музеем. Приходя в музей, мы сразу держим в голове план посещения, наш маршрутный лист. И если на нем встречается вместо ожидаемого экспоната табличка, которая гласит, что экспонат на реставрации или отвезен на другую выставку, — у нас случается ступор. Мы дезориентированы. В зоопарке так дезориентировать невозможно. Потому что если кто-то из животных спит или просто спрятался, обязательно найдется и тот, кто ведет себя активно. Более того, в зоопарк ты никогда не идешь с четким планом — ты попадаешь на эти гектары, и ноги тебя ведут туда, где больше на данный момент жизни (и поменьше туристов).
У нас со школьниками может быть программа-минимум — например, обойти за час и двадцать минут не более десяти вольеров. Но мы никогда заранее не знаем и не хотим знать, каких именно. Тут невозможно построить маршрут и избежать отступлений от него. В месте, где так много жизни, просто бесполезно что-то планировать.
В Московском зоопарке, например, есть два шикарных представителя семейства кошачьих — манул (или палласов кот) и камышовый кот. Они редко выходят к людям, очень независимо себя ведут.
Но если я вижу манула, я всегда веду детей к нему. Потому что нам выпадает очень редкий шанс его рассмотреть. Он же шикарный! Благодаря тренингам, которые киперы проводят каждую неделю, нам и с камышовым котом удалось познакомиться.
Точно так же не получится следовать маршруту, если ваш визит придется на кормление муравьедов
Они, как и куньи, едят из проблемных кормушек, выполненных в форме лабиринта из прозрачного оргстекла. В различные уголки этого лабиринта киперы раскладывают живых личинок или специальный комбикорм. Чтобы добраться до еды, муравьед должен залезть в лабиринт своим длинным языком и несколько раз его изогнуть. В общем, сделать то же самое, что для насыщения делает муравьед в дикой природе, залезая языком под кору деревьев или в термитники.
Детям за этим очень интересно наблюдать — они, как правило, сами это замечают и идут смотреть, как ест муравьед. Потому что можно сколько угодно раз в учебнике писать, что язык муравьеда гибкий и длинный, может достигать 60 сантиметров в длину. Но без иллюстрации до конца понять это невозможно — потому что нет восторга от этого чуда природы. А тут, в зоопарке, оно наяву — и ребенок запоминает его надолго.
«Люди почему-то до сих пор уверены, что животных в зоопарке морят голодом»
Современный зоопарк, как я уже сказал, — шоу. С большим количеством попкорна, всякого фастфуда. Более того, это место, где можно шуметь. Технические возможности и архитектура вольеров помогают разделить животных и посетителей, чтобы ни те ни другие друг другу не мешали.
Плюс ко всему шум — неотъемлемая часть дикой природы. Животные привыкли к нему и не пугаются. Разумеется, не стоит понимать мое «можно шуметь» слишком буквально. Орать и биться головой о стекло вольера или дразнить макаку виноградной лозой, оторванной от живой изгороди (недавно был тому свидетелем), — плохая идея. Это неуважение к окружающим и насилие над животным. А еще — основание для того, чтобы охрана зоопарка сопроводила вас к выходу.
Но когда какой-нибудь карапуз впервые видит жирафа и визжит от восторга — это даже хорошо
Это естественная реакция человека на природу. Зоопарк помогает видеть эту грань и находить безопасную форму для выражения своих чувств — от удивления до брезгливости. Он учит тому, что животным можно показывать наши эмоции, но им нельзя уподобляться. Тут как нигде важна культура поведения, которая формируется не от простого следования правилам, а от эмпатии. Условно — мы не фотографируем в зоопарке со вспышкой не потому, что нам штраф за это выпишут, а потому, что мы не хотим пугать животных, повреждать их глаза.
Впрочем, и в обратную сторону это тоже работает: иногда с животными злую шутку может сыграть не потребительство, а наша, скажем так, сердобольность. Люди почему-то до сих пор уверены, что животных в зоопарке морят голодом, и считают своим долгом — вы ведь в ответе за тех, кого приручили! — покормить их какой-нибудь мягкой булкой. А для каких-нибудь гусей и лебедей такое угощение смерти подобно. Оно просто разбухает и колом встает в их длинной шее, провоцируя удушье. Это тоже важно понимать.
Словом, зоопарк учит уважать границы, осмыслять свою роль в жизни ближнего и, так скажем, критике подвергать свое представление о правильном и прекрасном.
Обложка: sharifadmi, Karen Perhus / Shutterstock / Fotodom, личный фото архив Андрея Козлова