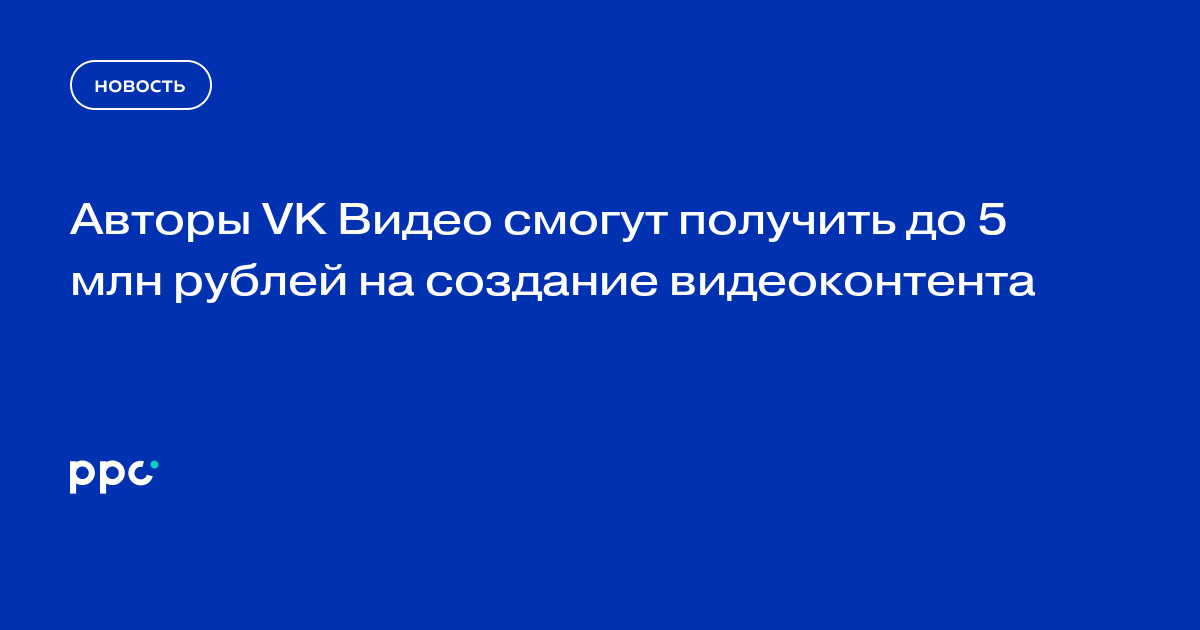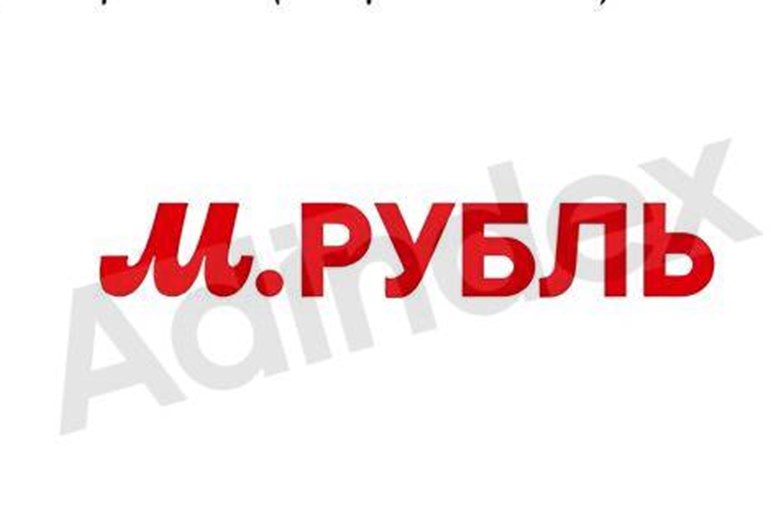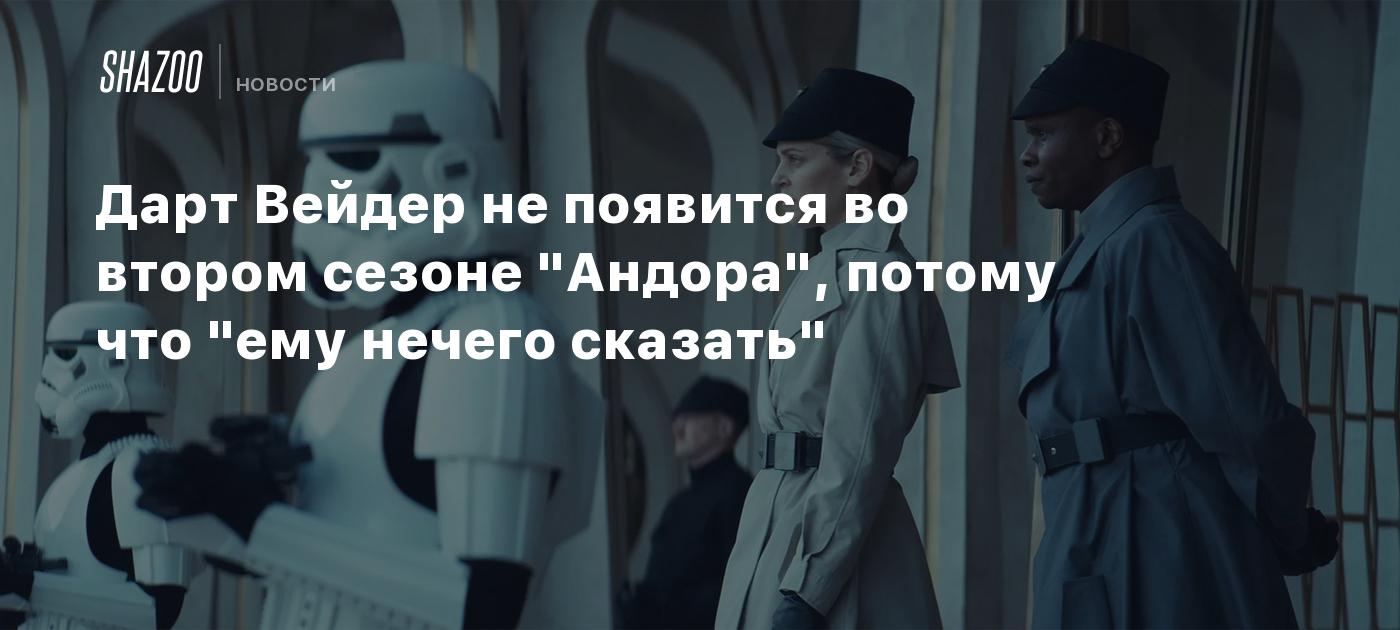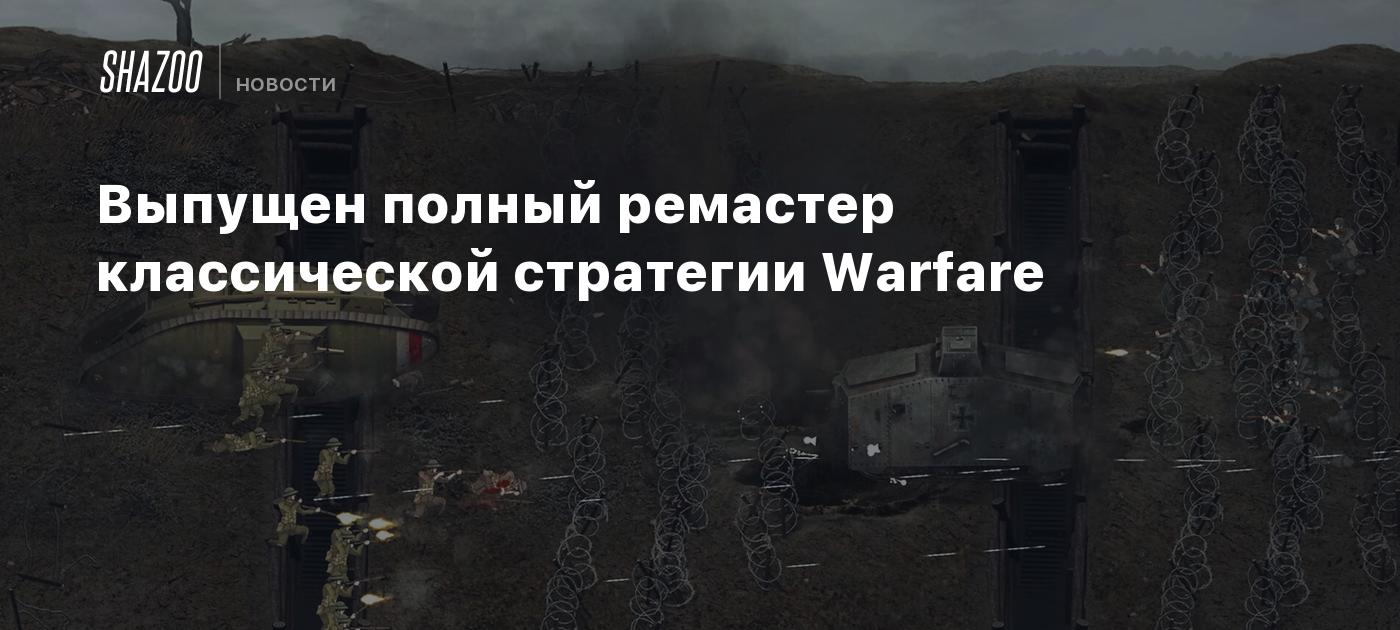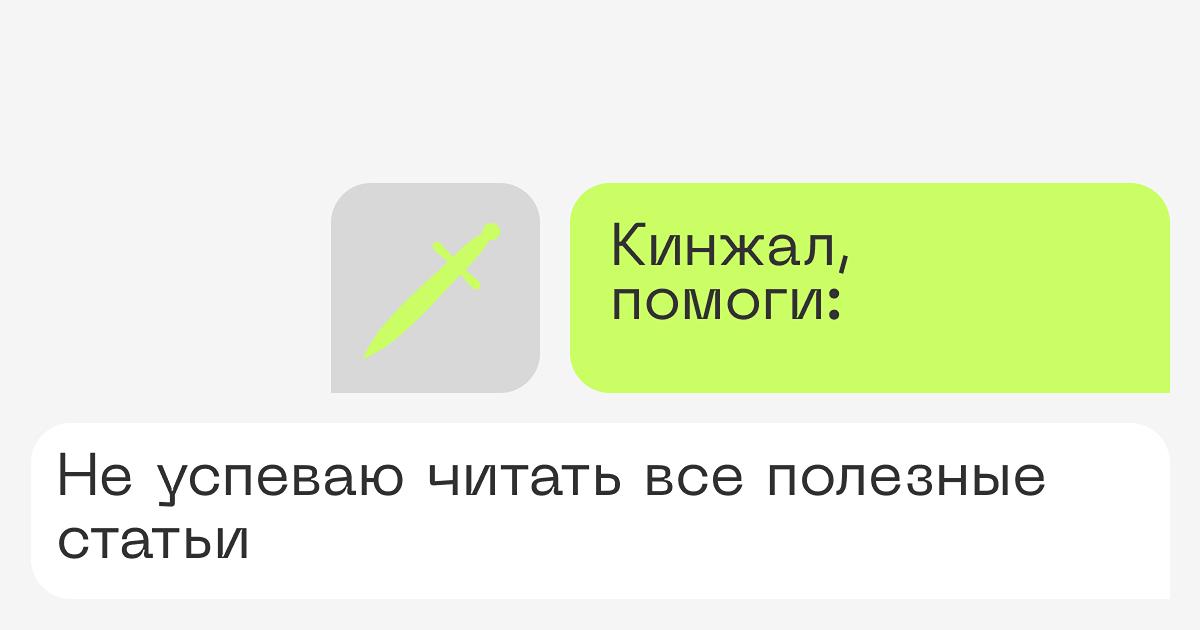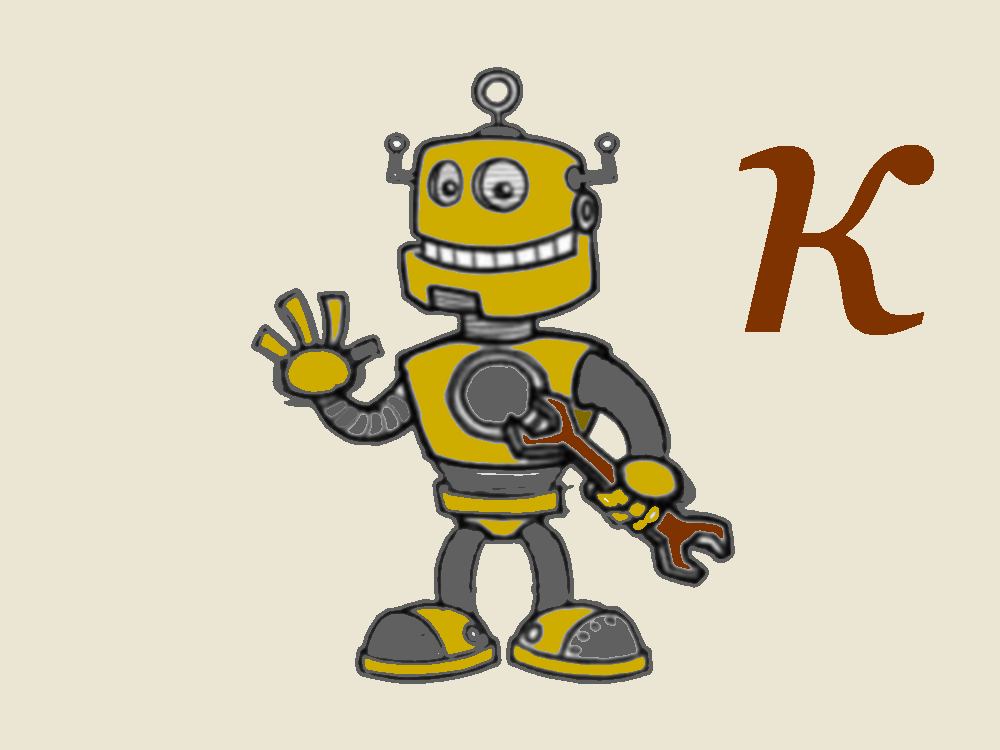Psyche: как мы учимся «читать» чужие мысли?
Как зарождается способность понимать, что у других людей в голове?

Автор: Жозефина Росс
Как зарождается способность понимать, что у других людей в голове? Исследования маленьких детей дают нам ценные подсказки о тех базовых кирпичиках, из которых строится умение, которым большинство из нас пользуется ежедневно.
Представьте себе такую сцену: ребенок трясет красную коробку с шоколадками, надеясь услышать знакомый шуршащий звук. С восторгом он наблюдает, как его младшая сестренка радостно принимает подарок и открывает коробку… только чтобы обнаружить внутри не сладости, а разноцветные стеклянные шарики. Старший ребенок заливается звонким смехом – фокус удался!
Но откуда у него взялось такое знание о том, что трюк сработает? Чтобы провернуть подобный розыгрыш, ему нужно было представить себе, что думает его сестра, учитывая сложившуюся ситуацию. Его слова, знакомая коробка и характерный звук – все это были подсказки, призванные заставить ее поверить, что ей предлагают настоящее угощение. Только когда сестренка откроет коробку, он поймет: для нее станет очевидно, что произошло обманутое ожидание.
Примерно в четыре или пять лет дети начинают развивать гибкую «теорию разума» – удивительную способность понимать мысли и чувства других людей. Это включает в себя осознание того, что убеждения могут не совпадать с реальностью (иногда это приводит к забавным ситуациям). Эта способность «читать» чужие мысли жизненно важна для успешного социального взаимодействия. В какую сторону повернет машина? Индикатор подсказывает нам намерение водителя. Понравилась ли вам эта привлекательная знакомая? Ее взгляд и легкий взмах волос могут стать ключом к разгадке. Хорошо ли мы понимаем друг друга в этой беседе? Чтобы ответить на этот вопрос, нам приходится представлять себе, что должен знать собеседник, чтобы следовать нашей мысли.
Теория разума активно изучается психологами с 1980-х годов, когда были разработаны специальные «задачи ложных убеждений». Эти задачи предлагают детям рассуждать о поведении других людей в ситуациях, где они обладают неполной информацией. Например: мама оставила ключи от машины на кухонном столе; пока она отсутствует, папа положил их в свой карман. Когда мама вернется на кухню, где она начнет искать свои ключи? Дети младше четырех лет, скорее всего, предскажут, что мама посмотрит в карман папы – ведь там сейчас находятся ключи. Однако дети постарше понимают, что мама будет ожидать найти их на столе, и что папа может попасть в неловкое положение.
Остается один важный вопрос: что происходит примерно в этом возрасте, чтобы сделать эту способность возможной? Как мы становимся «считывателями мыслей»?
[Присоединяйтесь к 85 000+ еженедельных подписчиков новостной рассылки]
[Присоединяйтесь к 85 000+ еженедельных подписчиков новостной рассылки]
Интригующие статьи, полезные советы и захватывающие фильмы – все это прямо в ваш почтовый ящик каждую пятницу. Наш контент абсолютно бесплатен, и вы можете отписаться в любое время.
[Политика конфиденциальности нашей новостной рассылки](ссылка)
На протяжении многих лет было предложено два основных подхода к пониманию того, как работает теория разума. «Теория симуляции» предполагает, что мы интуитивно считываем чужие мысли, представляя себе, как бы мы сами думали и чувствовали на их месте. Например: «Что я бы подумал, увидев эту коробку с шоколадками и услышав ее шуршание?» – и если вы сможете проследить ход своих собственных воображаемых мыслей, то сможете понять, что происходит в голове другого человека.
Другие психологи и философы воспринимают слово «теория» в названии «теория разума» буквально. Они считают, что люди обладают чем-то вроде научной теории о чужих мыслях, которую можно выразить с помощью теоретических терминов: «если X, и если Y, то Z». Например: если кто-то хочет шоколад (X), и думает, что он есть в коробке (Y), то он откроет ее с ожиданием (Z).
Взрослые часто используют комбинацию этих стратегий для понимания других людей – иногда «симулируя» их чувства или мысли, а иногда опираясь на знания о типичном поведении.
Первые признаки метакогниции – способности осознавать свои собственные мысли – появляются примерно в то же время, что и первые признаки самоконтроля и теории разума.
В недавнем исследовании мы использовали интуицию обеих теорий, чтобы попытаться выявить основные этапы развития теории разума. Как и взрослые, когда ребенок думает о том, что думает другой человек, он может либо представить себе, как бы он сам думал или чувствовал на месте другого человека, либо опираться на свои знания о том, как обычно ведут себя люди (например: «люди ищут вещи там, где ожидают их найти»). Однако, чтобы понять, что другой человек может иметь ложное убеждение, мы предположили, что ребенку сначала нужно будет сформировать представление о том, что такое вера или мысль. Таким образом, способность ребенка интроспектировать свои собственные мысли – также известная как метакогниция – может быть важным шагом на пути к способности рассуждать о психических состояниях других людей.
Но этого, возможно, недостаточно. Мы также ожидали, что самоконтроль, который детям требуется время для развития, будет играть важную роль в умении «читать» чужие мысли. Чтобы угадать, что происходит в сознании другого человека, нужно быть способным временно отбросить собственный опыт реальности – это требует сдержанности. Именно поэтому маленьких детей часто называют эгоцентричными (вспомните знаменитые «капризы двухлеток»), черта, которая постепенно исчезает с возрастом.
Предыдущие исследования показали, что первые признаки метакогниции – например, сообщения об ощущениях неуверенности – появляются в конце периода отлучения от груди, примерно в то же время, что и первые признаки самоконтроля и теории разума. Мы хотели более внимательно изучить порядок появления этих навыков, чтобы проверить нашу гипотезу: что метакогниция и самоконтроль необходимы для развития теории разума.
Мы наблюдали за группой шотландских детей трижды в течение полутора лет, начиная с трех-четырехлетнего возраста. Каждый раз мы давали им один и тот же набор тестов, чтобы увидеть, когда метакогниция, самоконтроль и теория разума появляются у одних и тех же детей, и как они связаны друг с другом. Чтобы оценить метакогнитивные способности детей, мы просили их выбирать предмет (например, утку) из пары размытых изображений, а затем спрашивали, уверены ли они в своем ответе. Если дети чаще говорят «уверен», когда дают правильный ответ, это свидетельствует о том, что они чувствительны к своей собственной уверенности. Наши показатели самоконтроля включали версию популярной игры «Саймон говорит», где детям нужно было следовать определенным инструкциям, но не другим. Чтобы измерить теорию разума, мы проверяли понимание детьми убеждений, знаний, намерений и эмоций – например, могли ли они правильно сказать, знает ли персонаж содержимое контейнера.
В течение этого периода развития мы обнаружили, что большинство детей сначала осваивают метакогницию, затем самоконтроль, а затем теорию разума. Наши результаты позволяют предположить, что эти первые два навыка могут служить важными ступеньками к способности рассуждать о мыслях и чувствах других людей. Кроме того, метакогниция и самоконтроль были связаны друг с другом во времени, что указывает на то, что способность интроспектировать свои собственные мысли играет роль в развитии самоконтроля.
Следовательно, для многих из нас понимание собственных психических состояний в раннем возрасте может быть ключом к развитию других важных навыков. Давайте вернемся к трюку с шоколадкой: старший брат знает, что в коробке лежат мраморные шарики. Однако ему приходится подавлять эти знания, чтобы сосредоточиться на том, что будет думать его младшая сестренка. Он может спланировать трюк, представляя себе, как бы он сам думал на месте своей сестры, или предсказывая типичное поведение (люди, которые хотят шоколад, смотрят в коробки с шоколадками). Но в любом случае ему уже должно быть понятно, что именно мысли – а не реальность – направляют поведение людей. Самый простой способ для ребенка прийти к этому пониманию — это интроспекция.
Понимание того, как развивается теория разума, важно и на практике. Развитие этой способности рассуждать о других умах может быть нарушено различными факторами окружающей среды, такими как недостаток возможностей для социального взаимодействия и развития языка, а также нейроотличиями, которые иногда связаны с трудностями в социальном мышлении. Чтобы помочь детям развить теорию разума, эксперты могут сосредоточиться на поддержке ее основных строительных блоков – например, на развитии саморефлексии и самоконтроля. Например, в то время как некоторые исследователи пытаются помочь детям развить теорию разума с помощью мыслепузырей, иллюстрирующих мысли и убеждения персонажей истории, более доступной отправной точкой для многих детей может быть поощрение их к интроспекции – возможно, путем конкретизации своих собственных мыслительных процессов (например, в виде этих самых пузырей).
Дети, выросшие в обществах, где ценится взаимозависимость, склонны демонстрировать самоконтроль раньше, чем теорию разума, по сравнению с их западными сверстниками.
Однако важно учитывать, универсальны ли основы развития этого навыка. В настоящее время исследователи объединяют усилия для решения повсеместной культурной предвзятости в детской психологии: большая часть информации о развитии детей основана на исследованиях с западными популяциями. В западных обществах люди склонны считать основной целью развития ребенка обретение независимости и самодостаточности – становление «главным героем» своей жизни. Но во многих частях мира основная цель состоит в том, чтобы помочь ребенку стать взаимозависимым, чтобы соответствовать своему социальному окружению для достижения общего блага. Например, в Японии развитие омояри (понятия, похожего на эмпатию и сочувствие) – одна из ключевых целей воспитания детей.
Как ни парадоксально, исследования показывают, что дети, выросшие во взаимозависимых обществах, развивают эти способности по-разному: они демонстрируют самоконтроль раньше, чем теорию разума, по сравнению с их западными сверстниками. Эта кажущаяся разница может быть связана с тем, что стандартные задачи теории разума были разработаны с использованием западной перспективы, фокусируясь на индивидуальном намерении как ключевом факторе поведения. Однако это также может быть связано со значительными межкультурными различиями в том, как люди мысленно представляют себе себя и других.
Результаты исследований развития, включая другие наши работы, указывают на то, что могут существовать значительные культурные различия в строительных блоках теории разума. В этом исследовании мы попросили детей из Шотландии и Японии выполнить те же задачи, что и раньше. В обеих группах мы снова обнаружили, что интроспективная способность связана с самоконтролем. Однако ни одна из этих способностей не была сильно связана с теорией разума у японских детей, что указывает на то, что предшествующие этапы развития могут различаться в взаимозависимых и независимых обществах.
Если это межкультурное открытие подтвердится в будущих исследованиях, как мы можем объяснить разницу? Возможно, во взаимозависимых обществах не требуется (столько) саморефлексии или самоконтроля, чтобы учитывать мысли и чувства другого человека, поскольку перспективы других людей всегда находятся на переднем плане мышления. В культурах с взаимозависимым уклоном дети могут следовать другой последовательности этапов развития к теории разума, возможно, через опосредование общих взглядов на реальность. В других контекстах – включая западный, ориентированный на независимость – способность ребенка догадываться о мыслях и чувствах других людей, вероятно, начинается с интроспекции.
Оригинал: Psyche