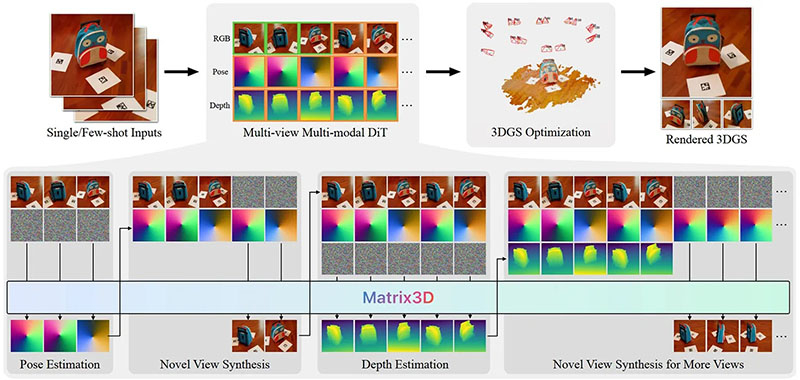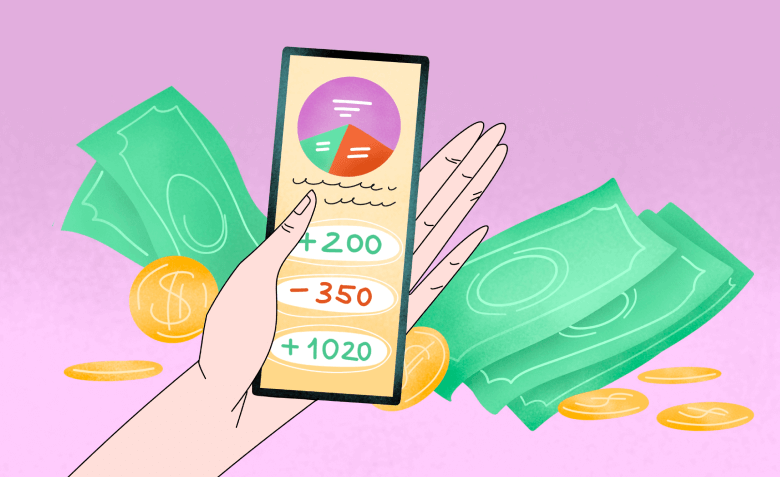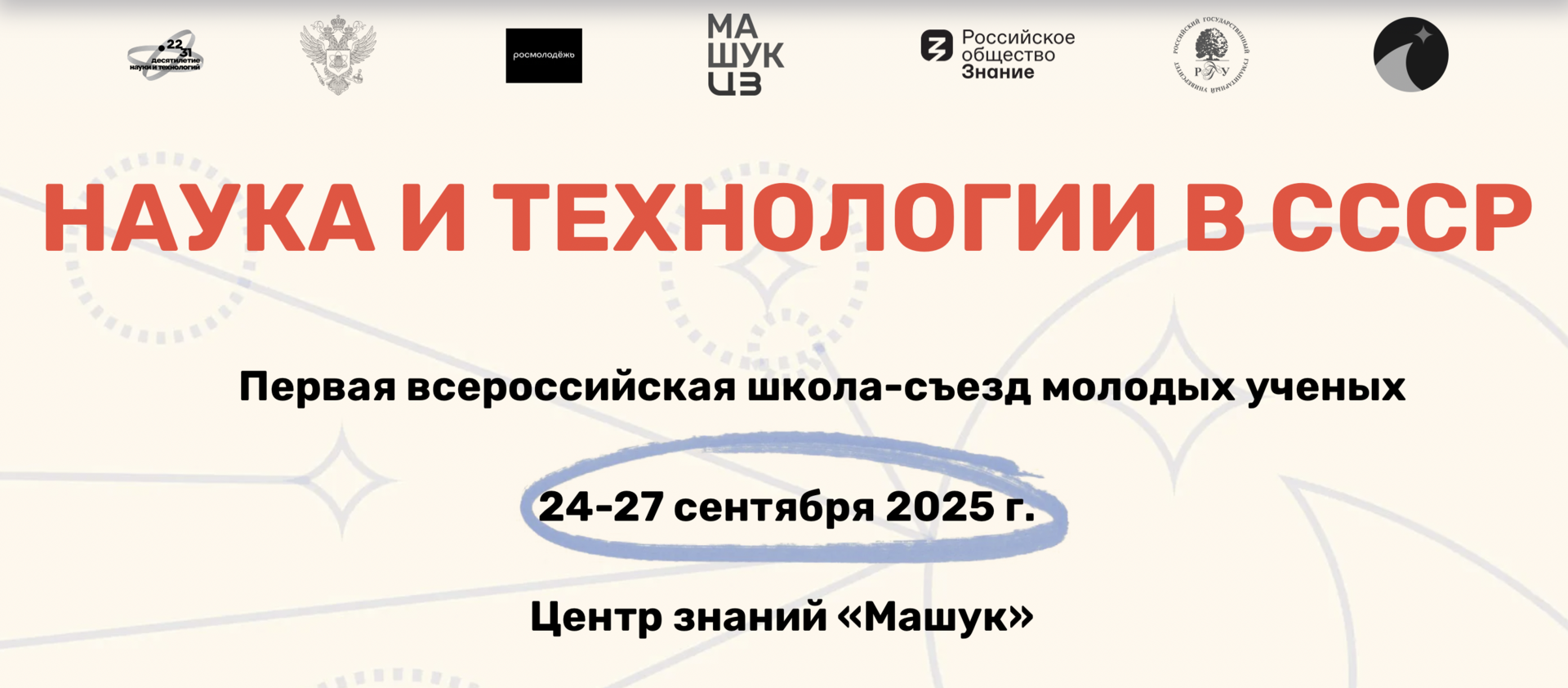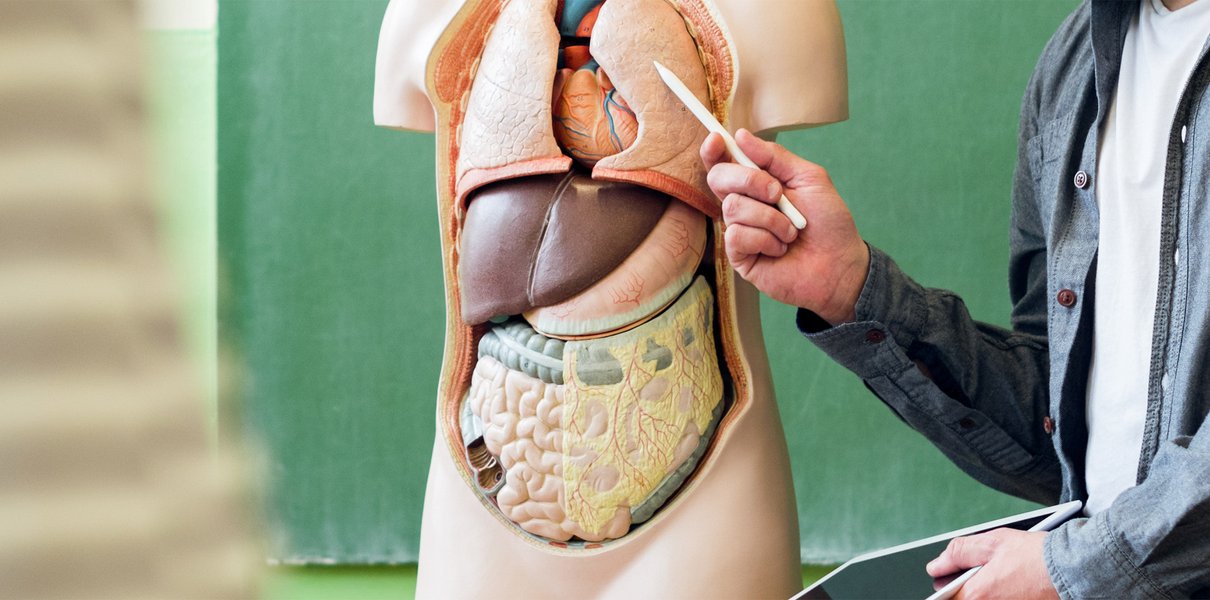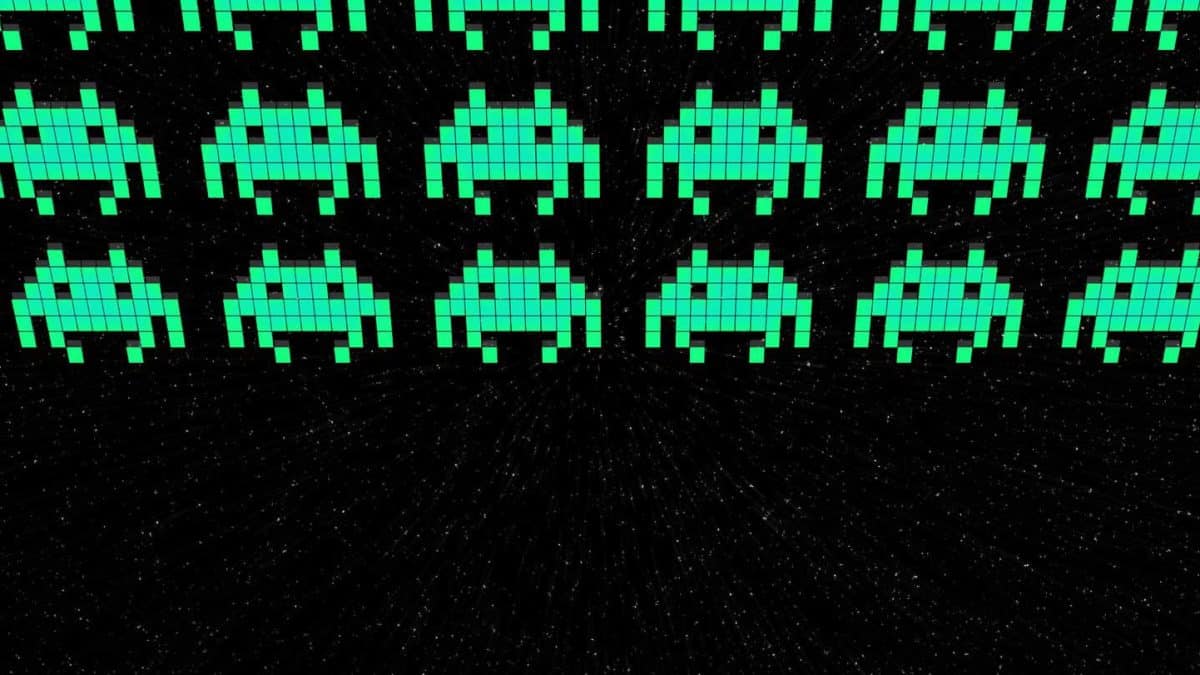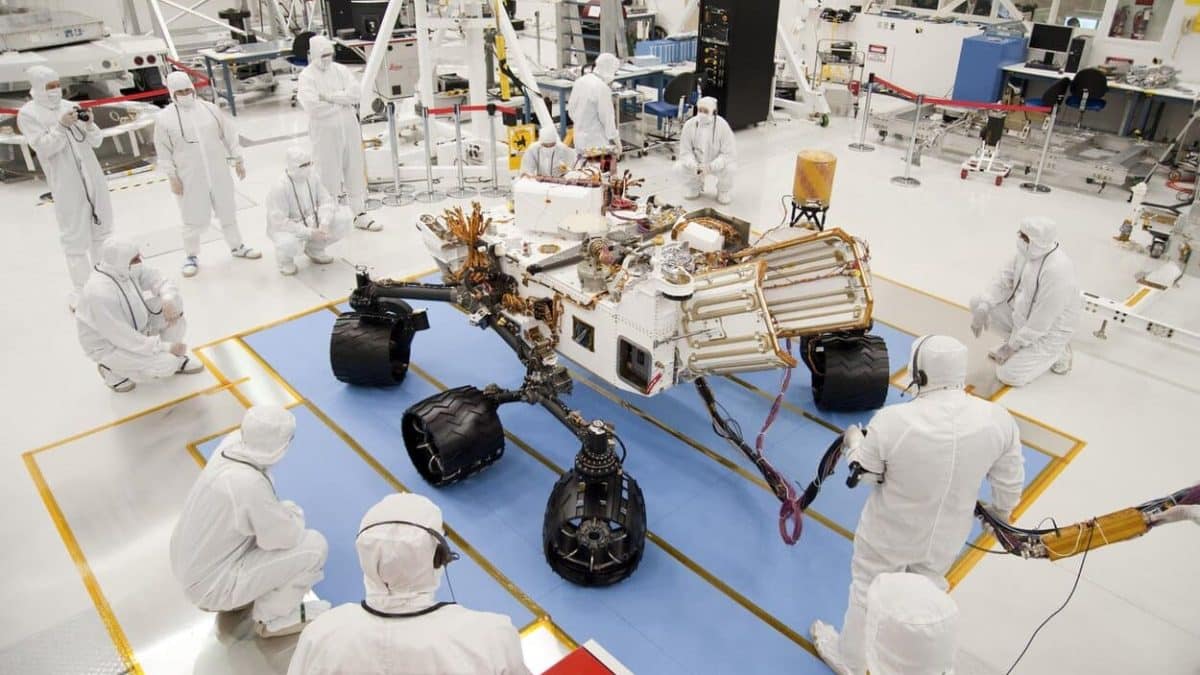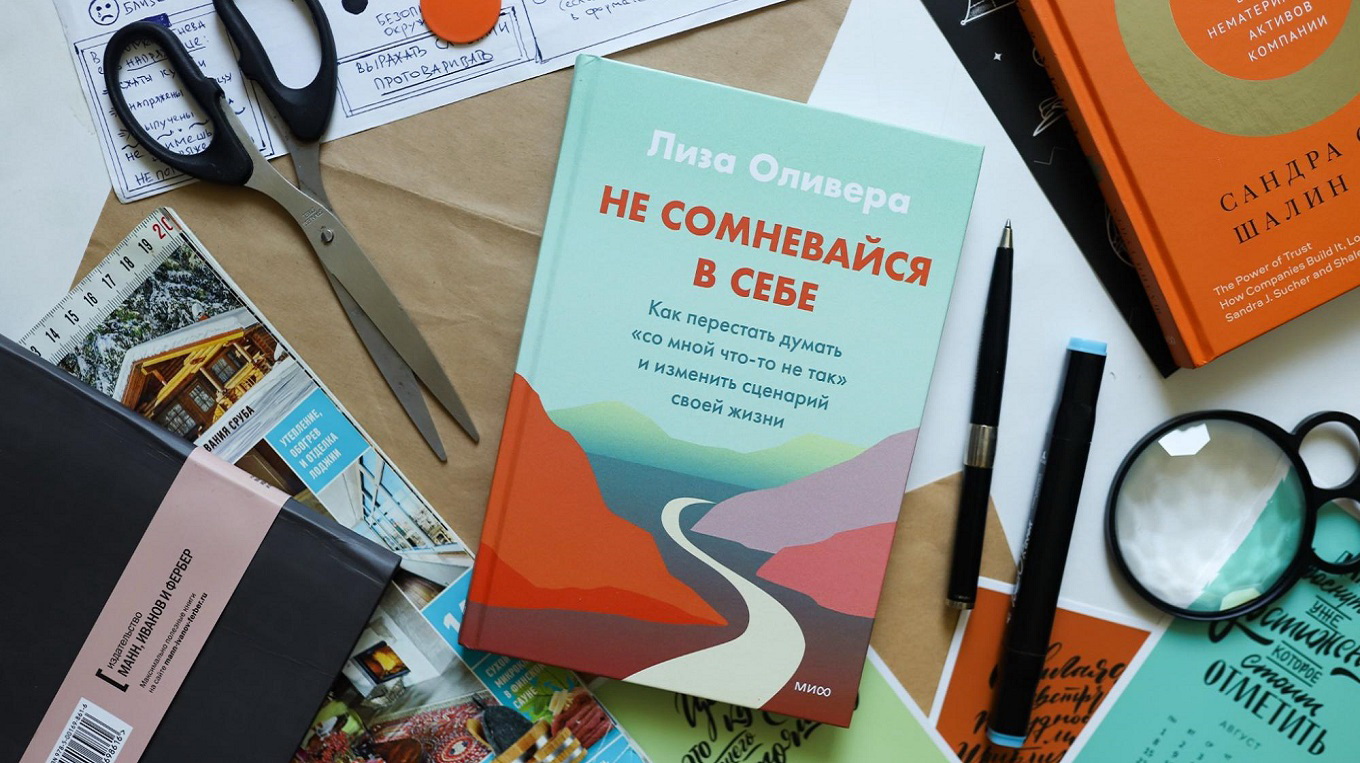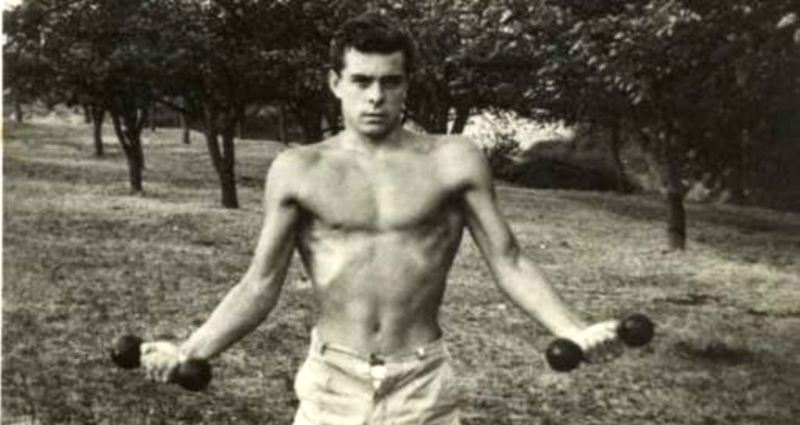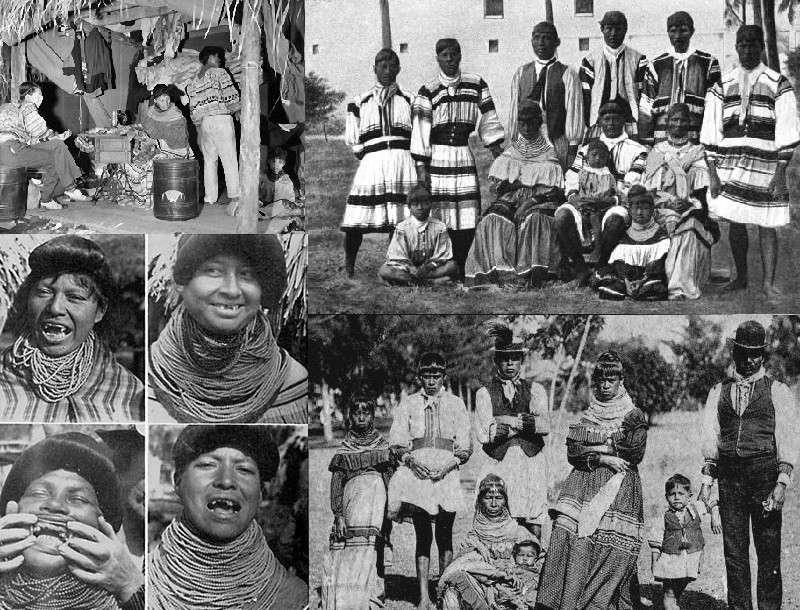О вкладе Китая в победу в Мировой антифашистской войне
При всём уважении к многочисленным иностранным гостям торжеств, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Москве, главное внимание было приковано к Председателю КНР Си Цзиньпину. Переговоры в разном составе, в том числе наедине, продолжались много часов. О значении приезда китайского лидера Фёдору Лукьянову рассказал Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, в интервью для программы […]

При всём уважении к многочисленным иностранным гостям торжеств, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Москве, главное внимание было приковано к Председателю КНР Си Цзиньпину. Переговоры в разном составе, в том числе наедине, продолжались много часов. О значении приезда китайского лидера Фёдору Лукьянову рассказал Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, в интервью для программы «Международное обозрение».
Фёдор Лукьянов: Понятно, что визит Си Цзиньпина в Москву прежде всего – дань уважения важнейшему партнёру. Путин нанесёт ответный визит осенью на торжества, посвящённые 80-летию окончания войны с Японией. Что для Китая Вторая мировая война и в государственном, и в человеческом плане?
Александр Ломанов: Современная китайская трактовка истории войны была сформулирована десять лет назад на фоне празднования 70-летия Победы. Тогда, в 2015 г., наши лидеры обменялись визитами – в мае Си Цзиньпин приезжал на парад в Москву, после этого в сентябре Владимир Путин присутствовал в Пекине на параде в честь разгрома Японии. Официальный взгляд на Войну сопротивления Японии был представлен в речи Си Цзиньпина 3 сентября 2015 года. Через пять лет, в сентябре 2020-го, китайский лидер добавил ряд важных штрихов, когда выступал по поводу 75-летия победы над Японией.
Победа Китая из локального события превратилась в важную часть Мировой антифашистской войны. Была утверждена идея двух театров военных действий, согласно которой на Востоке главной силой был Китай, на Западе – Советский Союз. Начальная точка истории войны отодвинулась в прошлое из 1937 г. в 1931 г., когда Япония приступила к захвату Маньчжурии.
И самое главное – была чётко обрисована связь событий прошлого с основополагающими темами наших дней. Предполагается, что в качестве державы-победителя Китай оказал определяющее влияние на формирование современного миропорядка. Отсюда вытекают важные для китайской внешней политики тезисы о первостепенной важности ООН и о необходимости соблюдения Устава ООН.
Помимо этого, подчёркнута важность войны как фактора ускоренного формирования и цементирования китайской нации. Чётко проговорено, что это был важнейший этап в сплочении китайской нации. Из метафорической «кучи рыхлого песка», неспособной подняться на отражение иностранной агрессии, она превратилась в единую нацию, готовую двигаться вперёд. После победы над Японией началась гражданская война, по итогам которой осенью 1949 г. появился новый Китай – Китайская Народная Республика, которая была в состоянии полным образом отстаивать свои интересы.
Полагаю, что в сентябре следует ждать выступление Си Цзиньпина по поводу 80-летия победы над Японией. В нём могут появиться новые оценки и дополнительные разъяснения важности вклада Китая в победу в Мировой антифашистской войне – как для самого Китая и его союзников, так и для человечества в целом.
Фёдор Лукьянов: У нас праздник Дня Победы двойственный: с одной стороны, это государственный приём, с другой – чрезвычайно важное человеческое событие, поскольку затронута почти каждая семья. Причём со временем это не проходит, а даже, может, усиливается. В Китае что-то подобное есть?
Александр Ломанов: На протяжении трёх-четырёх десятилетий после образования КНР это была прежде всего память об агрессии, о японских зверствах и жестокости, о стремлении Японии поработить и подчинить Китай. В трактовке войны долгое время присутствовала идейно-политическая преграда. Воевала ведь не социалистическая Китайская Народная Республика, а «буржуазная» гоминьдановская Китайская республика. В годы войны существовал единый фронт – коммунисты присоединись к гоминьдановской правительственной армии, чтобы дать отпор внешнему врагу. О вкладе в победу коммунистических вооружённых сил в Китае помнили всегда, о заслугах гоминьдановской армии вспоминали редко.
Поскольку китайская революция победила после завершения войны, эту ситуацию можно сопоставить с народной исторической памятью в СССР 1920–1930-х годов. Участие члена семьи на правильной стороне в революции и гражданской войне было куда почётнее, чем подвиги в рядах царской армии на фронтах Первой мировой. Вот и в Китае об участии родных и близких в революционной борьбе вспоминали чаще и охотнее, чем о службе в годы войны в гоминьдановской армии.
Сейчас Китай ощущает себя совершенно по-другому – как государство – учредитель ООН, хотя ООН была создана за четыре года до появления Китайской Народной Республики. Происходит расширение исторической памяти за рамки истории КНР. Современный Китай наследует всю историю за 5 тысяч лет развития китайской цивилизации, и первая половина ХХ века – не исключение. Стало больше упоминаний и воспоминаний о подвигах военных, не входивших в Красную армию китайских коммунистов.
В истории военных лет сохраняются заметные «белые пятна». Одно из них связано с деятельностью коллаборационистского марионеточного «реорганизованного национального правительства» во главе с Ван Цзинвэем. Японцы создали в 1940 г. на подконтрольных им территориях «клон» гоминьдановской Китайской Республики. Правительство Чан Кайши в то время укрылось в Чунцине и было настроено на продолжение сопротивления. Власти фиктивной республики заседали в Нанкине – столичном городе, где в декабре 1937 г. захватчики устроили чудовищную расправу над мирным населением. Ван Цзинвэй предал свою страну и партию Гоминьдан, согласившись встать во главе коллаборационистской администрации. В его распоряжении была многочисленная армия, созданная частично из военнопленных, частично из крестьянских рекрутов, которую использовали для подавления партизанского движения и «умиротворения» китайской деревни. Эта власть подписывала с Японией межгосударственные соглашения, а в начале 1943 г. докатилась до объявления от имени Китая войны США и Великобритании.
Эта история сложна для нашего понимания и особенно трудна для рефлексии самими китайцами. Полагаю, что со временем она будет интегрирована в полный контекст той войны. На фоне предательства Ван Цзинвэя решение Мао Цзэдуна и Чан Кайши не сдаваться и стоять до конца выглядит ещё более ценным и заслуживающим уважения в глазах потомков.
Китайская война с Японией отличалась от Великой Отечественной. Там не было быстрого передвижения фронтов и огромных наступательных операций с массированным применением техники с обеих сторон. На протяжении нескольких лет, с 1939-го до 1944-го, это была позиционная война с устойчивыми линиями фронта. Японцы осуществляли точечный контроль – захватывали экономические развитые районы, коммуникации, дороги, морские порты. Опасаясь неприятностей, они старались не лезть в китайскую сельскую глубинку.
Семейных преданий о той войне в Китае меньше, чем у нас о Великой Отечественной. Это вовсе не означает, что китайцы не хранят коллективную память о войне. Воспоминания о ней служат обоснованию места Китая в современном мире, они важны для внутренней китайской политики. Военные поражения 1937–1938 гг. напоминают о необходимости сплочённости власти, единения народа, о значении эффективного централизованного управления, готовности людей подняться на борьбу и дать отпор. Всё это влияет на менталитет народа, на мировоззрение интеллектуалов и политической элиты.
Фёдор Лукьянов: Вторая мировая война породила миропорядок, который долго существовал. Азиатское пространство всегда отличалось от европейского – там другие принципы и никогда не было (рискну сказать, что и не будет) организаций по укреплению безопасности, как ОБСЕ и прочие. Между тем напряжённость там растёт. Что можно ожидать в плане каких-то предохранителей? Вторая мировая война создала некий набор способов ограничивать воинственность крупных держав. Сейчас это под вопросом во всём мире, но что происходит в этом регионе?
Александр Ломанов: Предохранители европейского типа в Азии не существуют и ближайшее время не появятся. Но вряд в Азии об этом будут сильно жалеть, потому что европейские предохранители свою функцию выполняют всё хуже и хуже.
Тревожит тиражирование в Азии дискурсов, от которых мы порядком устали в трактовке истории Второй мировой войны в Европе. Рассуждения о том, что Советский Союз не лучше фашистской Германии, набили всем оскомину. Сейчас западные аналитики и СМИ при поддержке тех, кто им сочувствует в Азии, создают новый миф о том, что завтрашний Китай – это позавчерашняя Япония. На гоминьдановскую республику не возлагают историческую вину за японскую агрессию, вместо этого проецируют образы прошлого на настоящее. Сегодняшний Китай пытаются уподобить агрессивной империалистической Японии – дескать, он тоже амбициозен, создаёт мощные вооружённые силы, стремится стать главной силой в Азии, не дружит с США, много рассуждает об азиатском единстве и уникальности восточных цивилизаций. Последствия этих манипуляций будут такими же плохими, как и попытки приравнивания СССР к гитлеровской Германии. Недоверия и отчуждения в Азии станет больше, безопасности – меньше, Китай будет яростно бороться с этой лживой исторической аналогией.
Среди внешнеполитических приоритетов Китая присутствует продвижение равноправной упорядоченной многополярности. Речь идёт о будущем мироустройстве без одного всемогущего «полюса», в котором все страны смогут взаимодействовать на равных. Но если в этой многополярности нет гегемона, некому будет наводить порядок. Подразумевается, что новая многополярность должна вырасти снизу неким естественным образом. Участники процесса должны учиться договариваться, разговаривать друг с другом на равных, слышать друг друга, принимать аргументы друг друга. В качестве идеала эта равноправная взаимоуважительная многополярность уже фигурирует и в программных документах Китая, и в умах политической и интеллектуальной элиты.
Многие аспекты нынешнего конфликта между Индией и Пакистаном предвещают появление в Азии линий раскола подобных тем, что погубили перспективы сотрудничества между Евразией и Европой. В зарубежной оценке действий Индии важным фактором становится близость этой страны к США и её неприязнь к Китаю. Необычайно популярными стали рассуждения о том, что на самом деле это соперничество иностранных производителей оружия – одни наполнили арсеналы Индии, другие вооружили Пакистан. Отсюда оказалось нетрудно перекинуть мост к рассуждениям о «китайской угрозе», основанным на восхвалении пакистанского опыта применения произведенных в КНР вооружений. Центр внимания легко сместился с обсуждения причин опасного конфликта на алармистские заявления о том, что Китай добился слишком больших успехов в развитии своего научно-технического и производственного потенциала. Явное стремление объявить виновником любых азиатских неурядиц Китай напоминает антироссийскую риторику западных экспертов.
Фёдор Лукьянов: Мне кажется, это очень важное замечание, потому что когда стало понятно, что Азия становится главной стратегической площадкой XXI века, многие опасались, что европейские и атлантические принципы взаимоотношений перенесутся на Азию, и тогда мы повторим ХХ век уже там. С другой стороны, многие говорили, что там такого не будет, потому что там другая психология, но я согласен, что когда складываются определённые геополитические обстоятельства, культура и психология отходят, а принципы остаются теми же.
Александр Ломанов: Принципы становятся всё более важными. На протяжении многих десятилетий Запад мечтал о том, чтобы ценности стран Азии стали такими же, как у него. Это проекция западных ценностей, трактовка модернизации как вестернизации. Развивающимся странам Азии долго рассказывали о том, что они смогут стать богатыми и здоровыми лишь благодаря либерализации, демократизации и приватизации. Сейчас наступает момент истины.


Самый большой вопрос в том, сумеют ли Россия и Китай предложить Евразии и Азии новые ценностные ориентиры, которые окажутся привлекательными настолько, что к ним захотят присоединиться добровольно. В Азии нет гегемона, способного выстроить страны региона, навязать им что-либо, заставить их подчиниться и выполнять единые требования. Европейская модель интеграции теряет былое обаяние. Азии придётся объединяться на новых принципах политической организации, цивилизационного диалога, безопасности. Ей нужны новые отношения в сфере торговли, экономической глобализации, инвестиций. Новые правила игры должны быть свободны от желания подставить партнёру ножку и радоваться тому, что он остался позади. Этот набор идей и ценностей уже вызрел, включая новые принципы равной неделимой безопасности и равноправного, свободного от высокомерия и навязывания ценностей межцивилизационного диалога.
Холодная война не обошла Азию стороной, но её разрушительные последствия там все же меньше, чем в нынешней Европе. Есть шанс избежать повторения ошибок и построить другую траекторию развития. Нельзя позволять прошлому хватать настоящее и тянуть его назад.
Фёдор Лукьянов: Как справедливо замечал товарищ Мао, «перспективы светлые, но путь извилист».