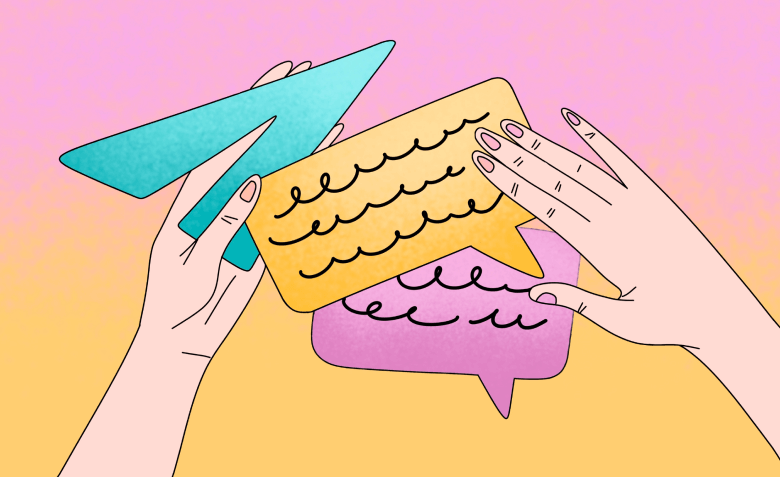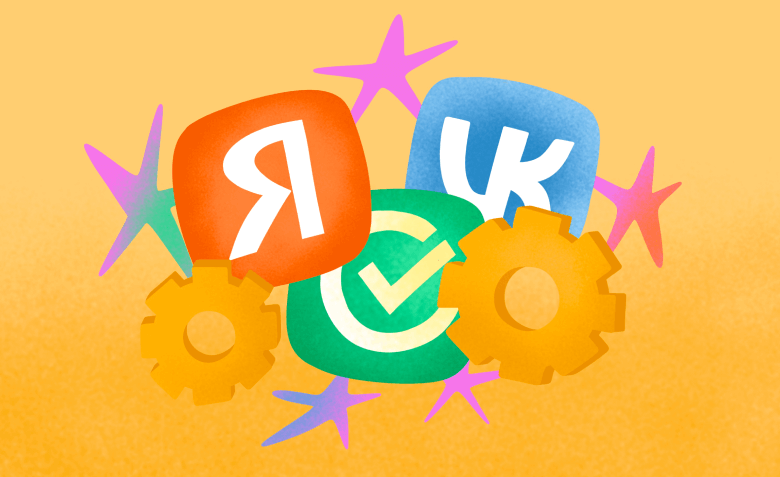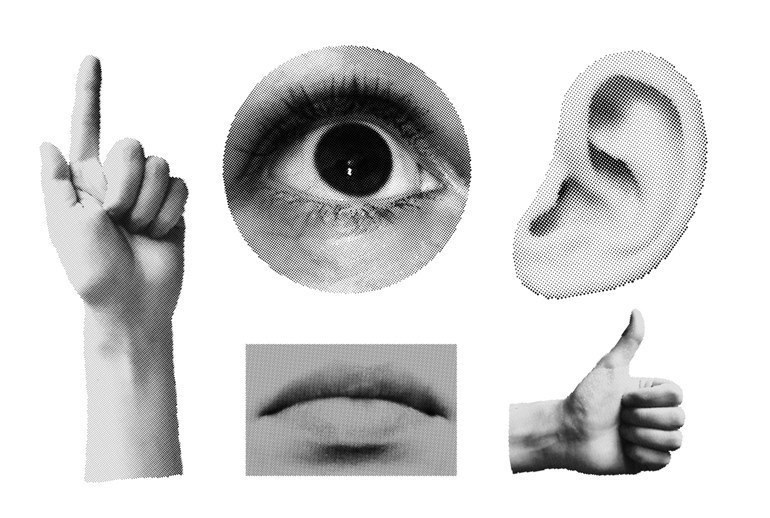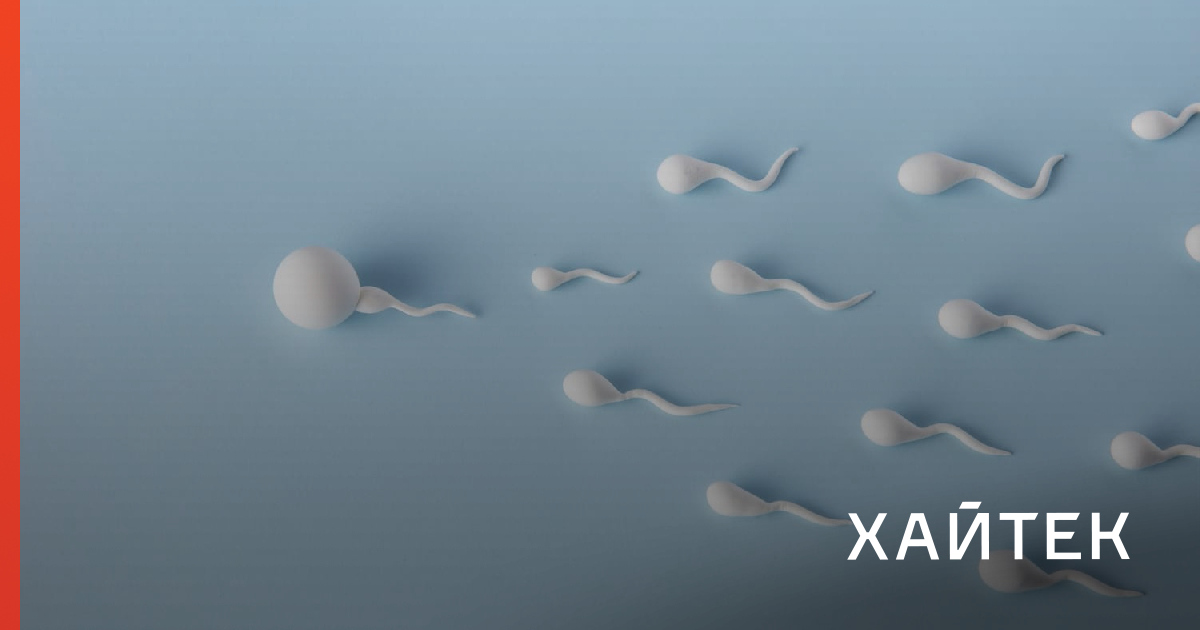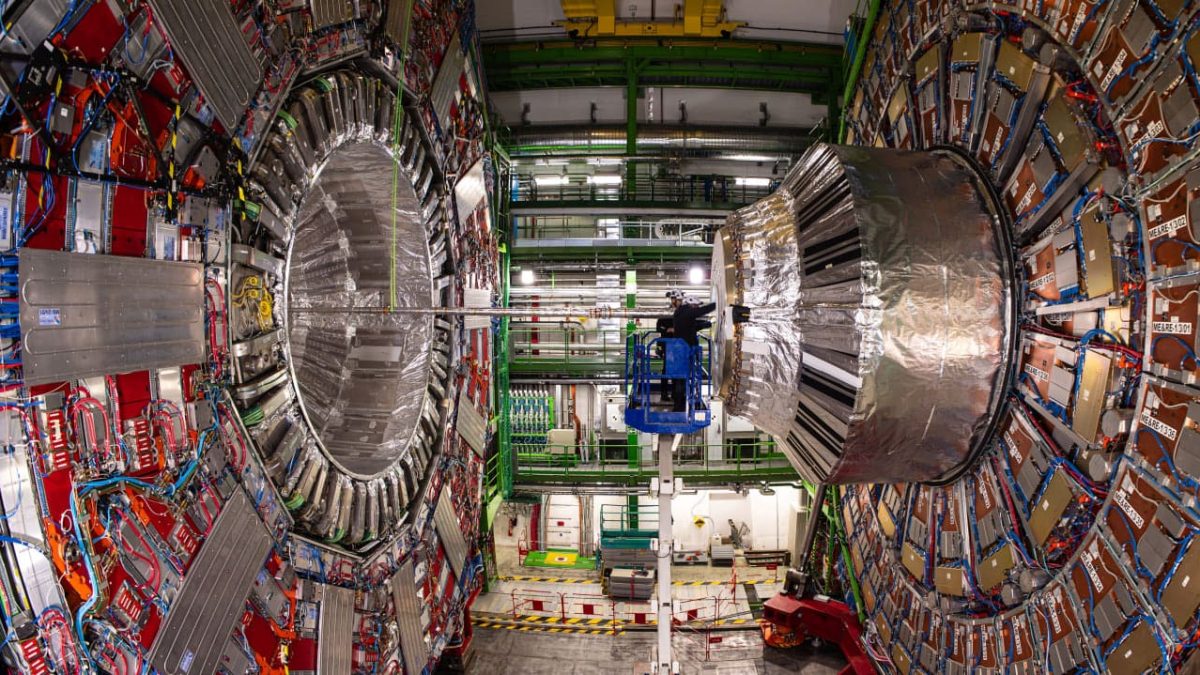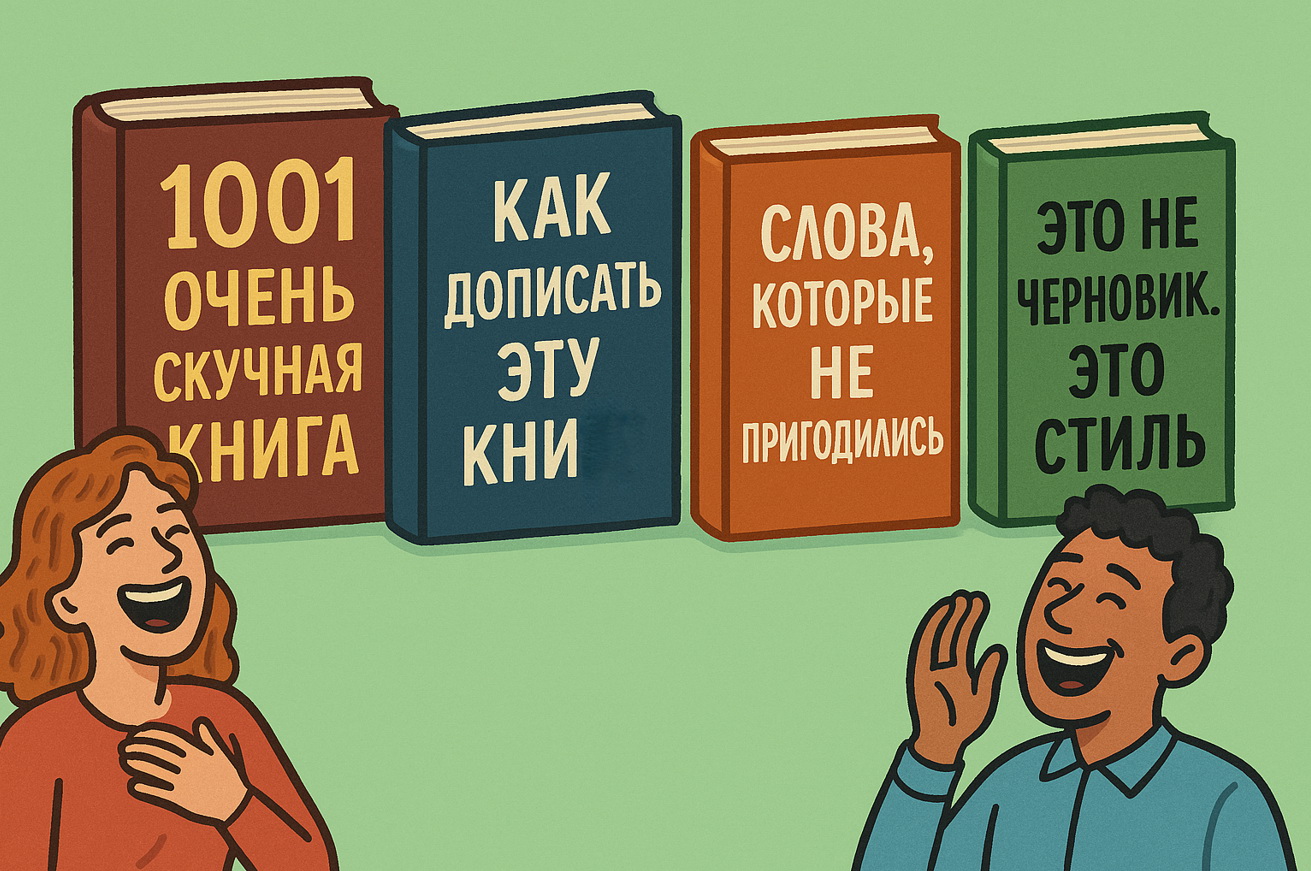Треугольник в круге: реальная многополярность – 2025
Роль США в международной повестке по-прежнему чрезвычайно велика – американцы накопили гигантскую фору. Должны произойти потрясения катастрофического масштаба (аналогичные распаду СССР), чтобы Соединённые Штаты выбыли из категории государств, наиболее значимых для расстановки сил. Такое не выглядит вероятным. Тем не менее американские руководители заговорили о наступлении многополярного мира (официально заявил Марко Рубио). США признают себя субъектом, […]

Роль США в международной повестке по-прежнему чрезвычайно велика – американцы накопили гигантскую фору. Должны произойти потрясения катастрофического масштаба (аналогичные распаду СССР), чтобы Соединённые Штаты выбыли из категории государств, наиболее значимых для расстановки сил. Такое не выглядит вероятным.
Тем не менее американские руководители заговорили о наступлении многополярного мира (официально заявил Марко Рубио). США признают себя субъектом, пусть заведомо самым сильным, но уже не единственным и уникальным по своим правам, как в период универсалистской гегемонии.
Понятие «многополярность» активно вошло в международный лексикон в середине 1990-х годов как ответ на утверждение Соединёнными Штатами и их союзниками, что западное доминирование (либеральный мировой порядок) не имеет альтернатив. Многополярность стала паролем тех (в авангарде находились Россия и Китай), кто не соглашался с безальтернативностью «однополярного момента». Впрочем, ясного понимания альтернативы тогда не предъявлялось, хватало лозунга.
На тот момент политический Запад, действительно, оставался недосягаемым лидером по большинству категорий влияния – политическому, военному, экономическому, идеологическому, культурному и прочему. Единственное, в чём западное сообщество уступало, была демография, оно было меньшинством мирового населения. Но несопоставимый перевес по прочим показателям, казалось, с лихвой компенсировал этот дисбаланс.


Не случайно главный вызов развитых стран связан сейчас с миграцией, и носит он двоякий характер. С одной стороны, массовый приток населения с юга на север создаёт немало социально-культурных проблем в принимающих государствах, что влечёт за собой политические кризисы. С другой, экономики тех же самых государств нуждаются в кадрах, которые многие из них не способны воспроизвести сами.
По мере дальнейшего развития это противоречие рискует стать существенным фактором распределения мировых ролей. Влияние неоднозначно, демографический потенциал даёт менее сильным странам неожиданный инструмент воздействия на более сильные, хотя и «поставщики» рабочих рук очень зависят от принимающей стороны. Жёсткие меры последней против мигрантов способны вызвать острый кризис в государствах, откуда те едут. А это, в свою очередь, создаёт опасность перетекания кризиса в страны-реципиенты, особенно если они соседи. Такие процессы обычно не рассматривались в контексте геополитического соотношения сил, но их следует учитывать среди особенностей многополярного мира.
Если вернуться к более традиционным схемам, события последнего периода показали примечательное. Участвовать в оформлении многополярности стремятся далеко не все, кто в состоянии претендовать на это по своему потенциалу. Текущие военно-политические кризисы – вокруг Украины и Палестины – выявили, что круг ограничен. Смысл обоих конфликтов – как сложится геополитическая иерархия в ключевых регионах: на Ближнем Востоке (Средиземноморье и примыкающие территории) и в Восточной Европе (от Черноморского до Балтийского бассейна). Рисуется картина, не блещущая новизной: вновь солируют сверхдержавы второй половины прошлого века – Россия и Соединённые Штаты. (Особенно когда появились признаки, что переговоры по украинскому вопросу увязаны и с ближневосточной темой – Иран, Израиль и прочее). А ведь полвека изменили всё кардинально, да и соотношение возможностей Москвы и Вашингтона совсем не то, что было. Но помимо измеряемых показателей мощи есть и готовность/желание участвовать в «больших играх», то есть брать на себя риски, иногда существенные.
Это не привлекает ведущие державы Глобального Юга, даже такую огромную, как Индия, не говоря о других. «Глобальные южане» выбирают наблюдение разной степени включённости в зависимости от собственного интереса. Упомянутый выше демографический аспект – элемент влияния мирового большинства.
Особое место занимает Китай. Он создал гигантскую индустриально-производственную мощь, само её наличие – важнейший фактор влияния. От прямого вовлечения Пекин всё равно пытается уклониться, хотя Китай беспокоит решение принципиальных вопросов без него.
Антипод КНР – Европа. ЕС рвётся участвовать в наиболее значимых международных процессах, но не обладает инструментарием – военным, политическим, а постепенно и экономическим.


На сегодняшний день есть основания говорить о стратегическом треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин, где два угла активно формируют конфигурацию, а третий замыкает её своим присутствием. Фигура не статичная, будет меняться. В круге созидания мировой политики находятся, на некотором отдалении от центра, Индия (благодаря масштабу) и Европа (по инерции), статус обеих тоже динамичен. Влияние на процессы оказывает ещё ряд стран разного калибра – Турция, Саудовская Аравия, Иран, Израиль, дальневосточные союзники США и несколько других. Так выглядит реальная многополярность по состоянию на апрель 2025-го. К концу года картина, возможно, будет уже другой.
Автор: Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»