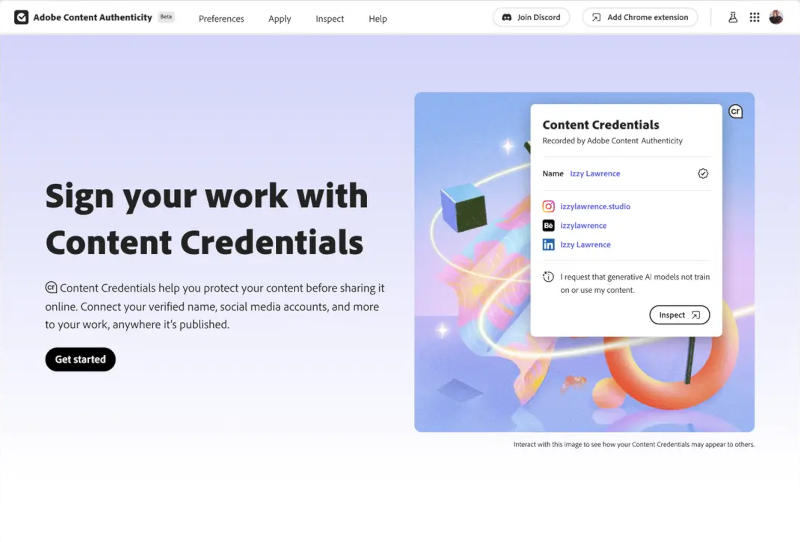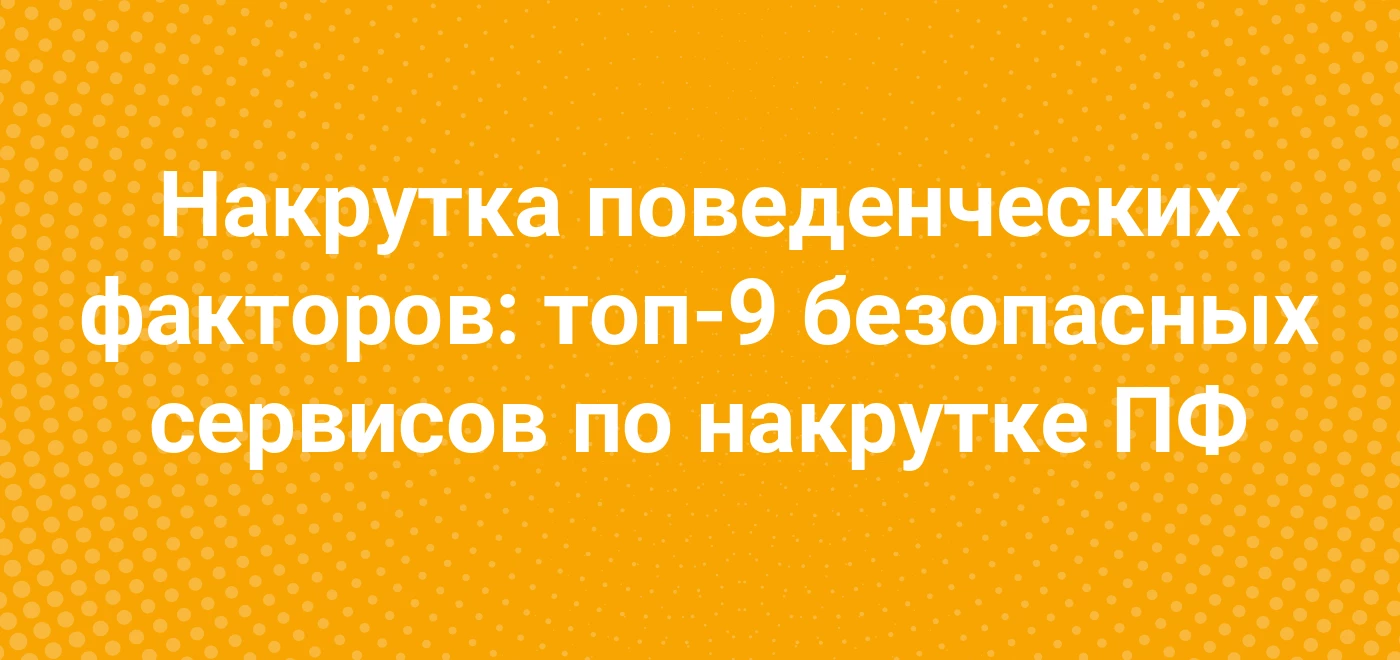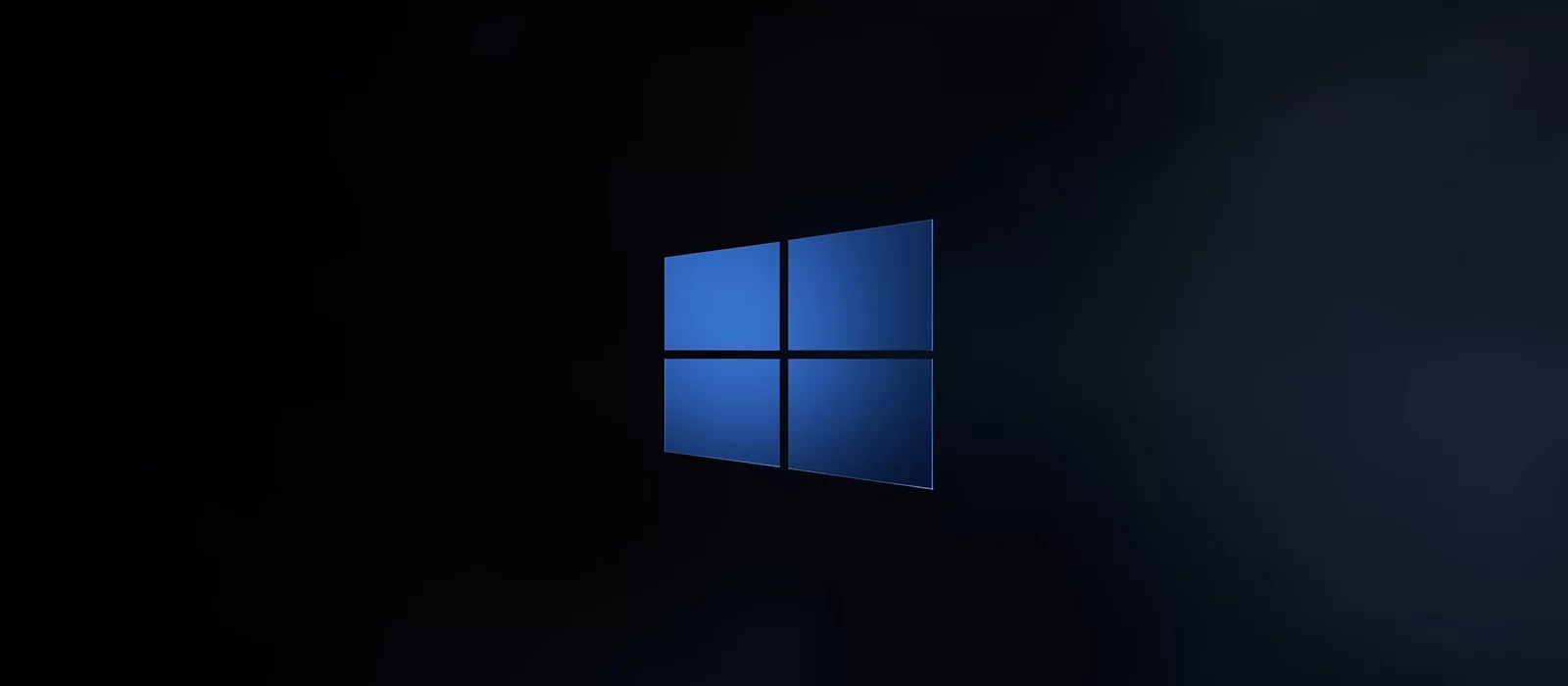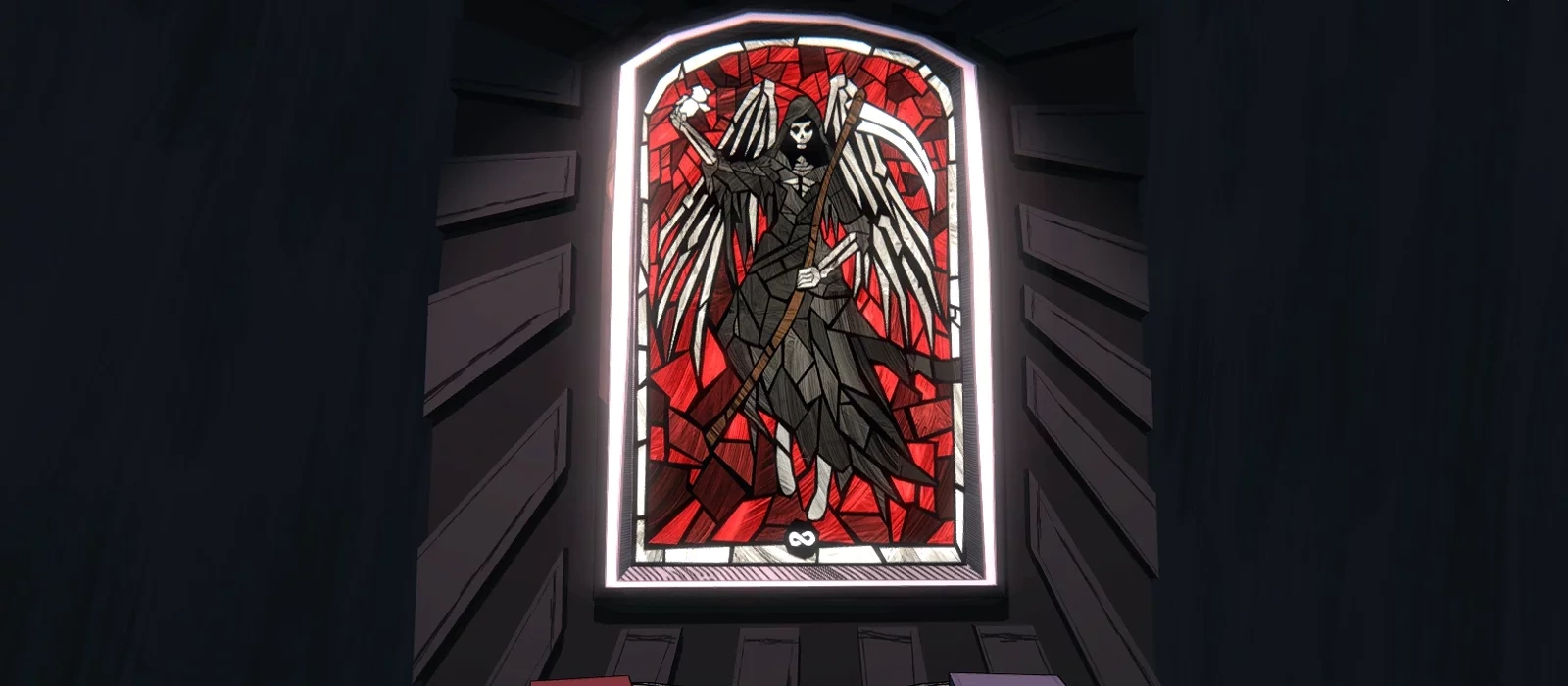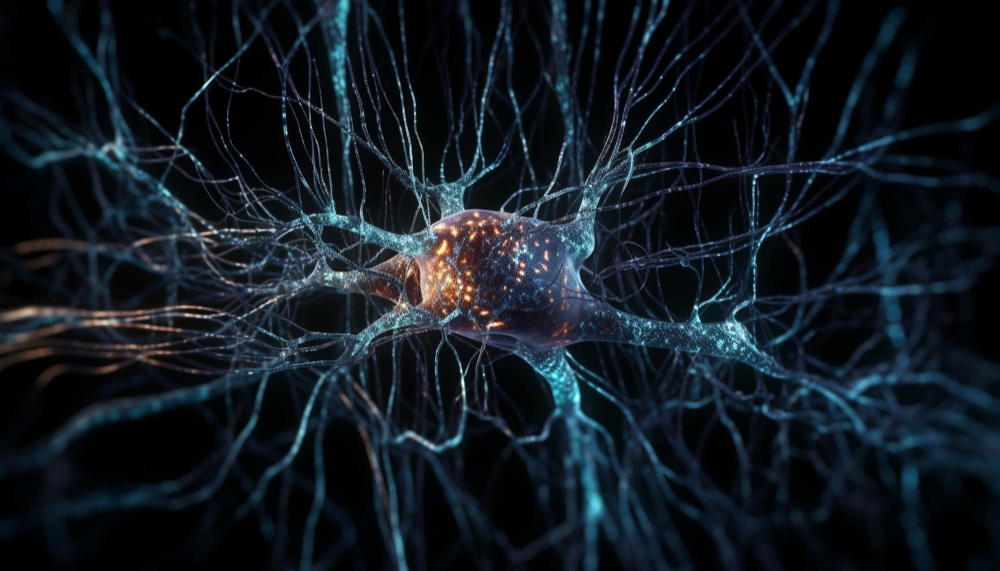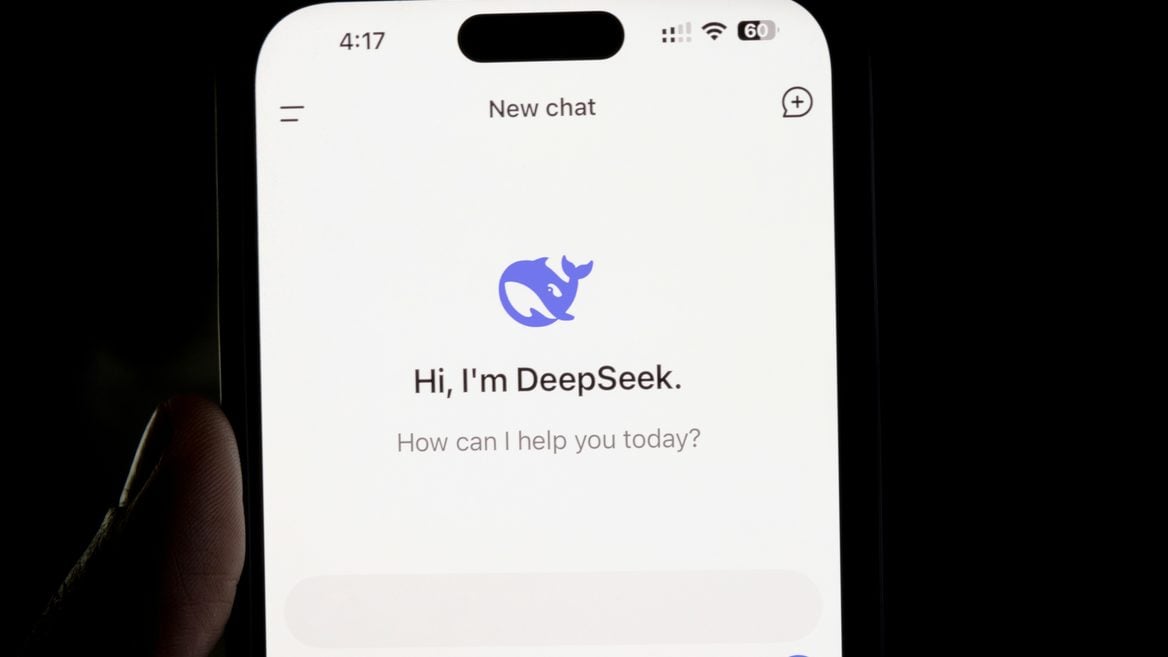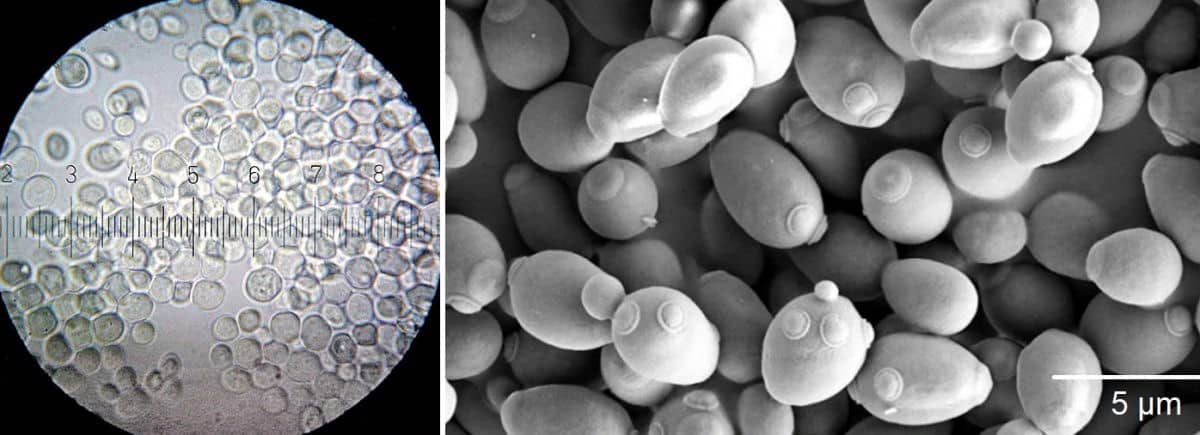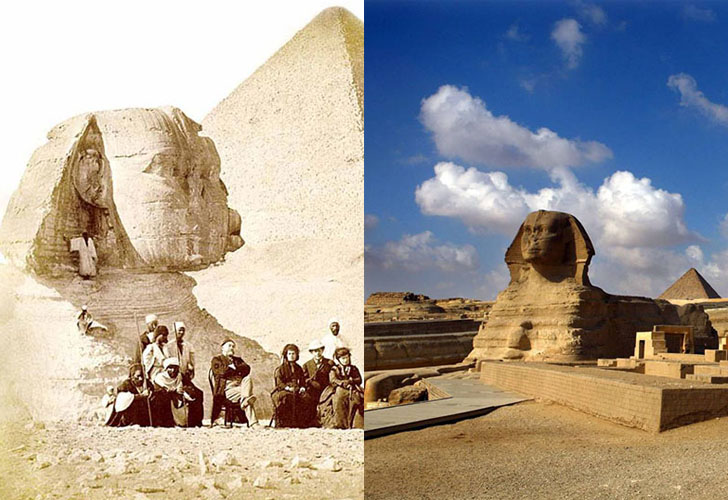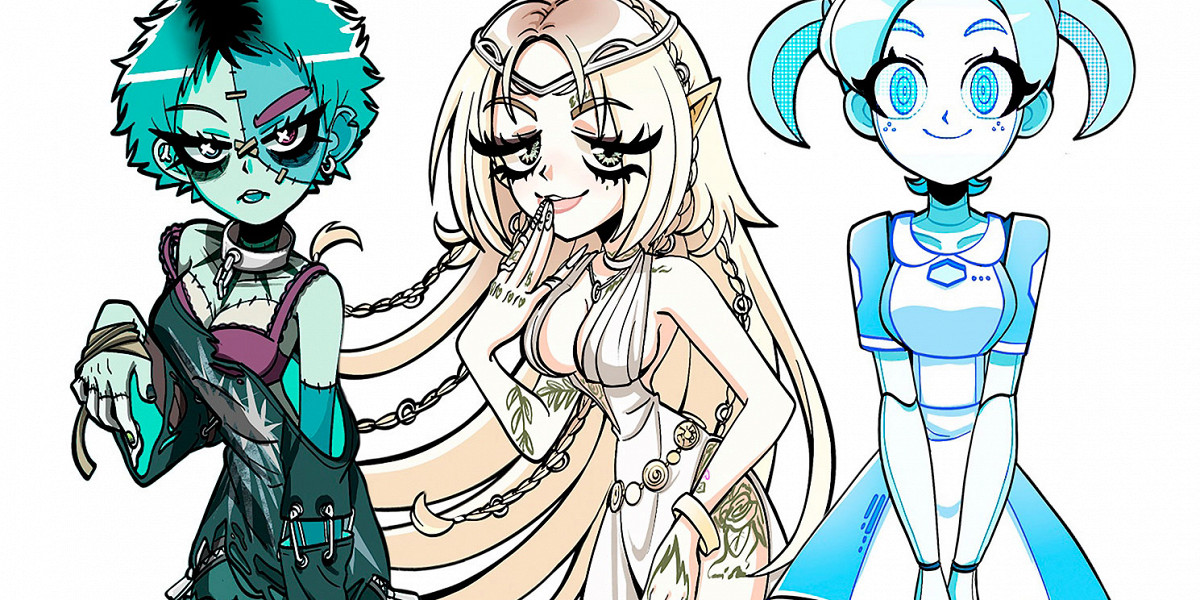Тест Роршаха и реальность: что есть сегодня «мировое меньшинство»?
Если есть «мировое большинство», значит, существует и «мировое меньшинство», то есть страны Запада. При этом «большинство» становится всё многочисленнее, а «меньшинство» – всё меньше. Что это означает с точки зрения мирового устройства? Надолго ли хватит «меньшинству» накопленной форы? Наконец, частью какой группы является Россия? На эти вопросы искали ответы участники сессии «Глобальное меньшинство: есть ли […]

Если есть «мировое большинство», значит, существует и «мировое меньшинство», то есть страны Запада. При этом «большинство» становится всё многочисленнее, а «меньшинство» – всё меньше. Что это означает с точки зрения мирового устройства? Надолго ли хватит «меньшинству» накопленной форы? Наконец, частью какой группы является Россия?
На эти вопросы искали ответы участники сессии «Глобальное меньшинство: есть ли будущее у Запада?» в рамках XX Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вёл которую главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. В ней приняли участие Андрей Исэров, Родион Белькович, Алексей Чихачёв, Джеффри Робертс и Борис Межуев.
Американская устойчивость
Сегодняшние горячие дискуссии на тему упадка США (один из приведённых примеров – книга Ричарда Лахмана «Пассажиры первого класса на тонущем корабле») несколько деформируют политическую, экономическую и демографическую реальность, следует из выступления Андрея Исэрова. В действительности мировые позиции Вашингтона не меняются, и нет причин ждать очевидного ослабления.
Во-первых, доля США в мировом номинальном ВВП не изменилась с 1990-х гг. – через 34 года он равен 26,3 процентам (хотя в 2001–2002 гг. он достигал 31 процента). В отличие, например, от Японии, доля которой рухнула с 18 к 3,8 процентам, но мировая пресса всерьёз не обсуждает её упадок.
Во-вторых, в Америке растёт население. Это связано не с рождаемостью, а с ростом миграции. В США приезжают работать квалифицированные кадры. Для развитой страны с падающей религиозностью это серьёзное преимущество.
В-третьих, США обладают мощным военным потенциалом. Сегодня на США приходится 37 процентов мировых военных расходов – Китай тратит на оборону втрое меньше. Кроме того, американская армия – третья в мире по численности.
В-четвёртых, гегемония американской культуры сохраняется. Мир не только не выучил китайский или фарси, но забывает французский и немецкий. Наконец, мировые финансы всё ещё сконцентрированы вокруг Нью-Йорка. Таким образом, статистика демонстрирует внутреннюю силу Соединённых Штатов (то, что они сами бы назвали “resilience”), и говорить об американском упадке пока очень рано.
Если смотреть на идейное развитие США, стилистика MAGA нацелена на «возвращение вытесненного», Трамп и его команда заняты мобилизацией подавленного потенциала, чтобы использовать его в качестве источника энергии для радикальных перемен, считает Родион Белькович. Трамп возвращает в политический дискурс вопросы, которые традиционно находятся «в глубине» сознания американцев, но не исчезают из него. Исторически США – страна подавленного конфликта и противоречий, неразрешённых до сих пор. Конфликт между колониями и метрополией не закончился вместе с американской революцией, он продолжается до сих пор в противостоянии федералистов и антифедералистов. Мы хотим республику, но у нас противоположные взгляды на то, что это такое. Конституция США не устраняет противоречия, а консервирует их (только поэтому она могла быть принята). Конфликт между Севером и Югом завершился, однако сохранился в культуре. Сосуществование Конституции США и Декларации независимости – само по себе повод для постоянных дискуссий в идейном поле насчёт того, что же является основанием американской государственности. На поверхности всё гладко, но разночтения не устраняются, а вытесняются и подавляются.
Какие вопросы отражаются в информационной политике администрации Трампа?
- Проблема кредитно-денежной системы, государственного долга и золота (Трамп и Маск предлагают проверить, есть ли золото в Форт-Нокс, пишутся законопроекты о реформе ФРС); исторически это точка напряжения: «частные лица монополизировали нашу республику и выполняют функции, которые принадлежат публике».
- Тема налогов – для англосаксонской культурной ойкумены в ней обнаруживается лазейка для возникновения тирании (предлагается заменить налоги тарифами).
- Проблема unelected officials, неизбранной власти в Вашингтоне, о которой постоянно говорит команда Трампа.
Это конфликтные точки, запретные темы, о которых говорить не принято, но все знают, что они есть. И сегодня такие противоречия поднимают на щит не радикалы, а администрация президента. Не потому, что эти противоречия автоматически «снимаются» проговариванием, а потому, что в этом дискурсе, как в пятне Роршаха, каждый гражданин увидит проблемы, которые его больше всего волнуют. Более того, Трампу и его команде пока даже необязательно решать эти проблемы. MAGA творчески переосмыслила идею «Движения чаепития» (Tea Party Movement), создавая новую, неписанную Декларацию независимости США. Революционность происходящего в том, что администрация Трампа пытается закончить незавершенную буржуазную революцию (революцию всего народа, unity) и построить государство-нацию, завершив эпоху господства элит над народом. В XVIII веке за счёт компромиссов была создана республика, но не национальное государство. Поэтому Трамп подчёркивает свой мандат, что он национально избран. Трамп хочет преодолеть эту ситуацию конфликта. Преуспеет ли он в этом, предсказать сложно.
«Одинокий всадник»
На другой стороне Атлантики интересная динамика складывается вокруг Франции, о чём рассказал Алексей Чихачёв. Республика оказалась в ситуации «геополитического одиночества». Всё чаще то, что Франция говорит и пытается делать на международной арене, не слишком охотно подхватывается её союзниками. Страну сравнивают с «одиноким всадником», который пытается продвигать идеи, формировать авангард желающих, но не всегда встречает понимания у остальных. В частности, не была горячо поддержана идея отправки военного контингента на Украину. Знаменитая формула Макрона о «смерти мозга НАТО» подразумевала переосмысление стратегических интересов альянса в современном мире, но выражение выбрано крайне неудачное. Наконец, в 2022 г. в одном из французских стратегических документов было указано, что страна видит свою роль на международной арене в качестве «державы-балансира». Тогда многие союзники на Западе не поняли, кого она будет балансировать, и не ставит ли Франция под сомнение западную солидарность.
«Геополитическое одиночество» Парижа – это не синоним изоляции, неприсоединения или бездействия. Есть три варианта объяснения этого феномена.
Во-первых, голлистское наследие, идея величия. Великая держава всегда в какой-то степени одинока, она самобытна, своеобразна. Она не должна бояться одиночества, нужно его признавать и учиться с ним жить. При этом замкнутость на себя не означает закрытость от отношений с другими странами: внешнюю политику де Голля отличала многополярность и многовекторность.
Во-вторых, личность и стиль Макрона. Чрезмерно централизованная, «юпитерская» модель принятия решений. Макрон считает внешнюю политику сферой своей исключительной экспертизы и к советникам прислушивается неохотно. Кроме того, он политик эпохи постмодерна, для которого интеллектуальная провокация важнее смысла того, что говорится.
В-третьих, констатация факта. Франция заявляет широкие амбиции, но подтвердить их сложно. Ситуация в Новой Каледонии наглядно показала, насколько ограничены лидерские инициативы Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке и в Африке позиции Парижа также неустойчивы.
Как Франция борется с «геополитическим одиночеством»? Ответ французских элит – как можно глубже интегрироваться в западное сообщество и пытаться быть наибольшим атлантистом из всех атлантистов, образцовым союзником по НАТО. Но это решение усугубляет проблему одиночества – в попытке быть «ястребом» Франция снова идёт дальше всех. Париж во многом теряет в своей оригинальности, выбирая атлантизм. Франция исторически была страной, готовой к диалогу со всеми, не избегающей сложных тем во внешней политике. Наконец, французские элиты за последние десятилетия сдали позиции в том, что касается стратегического мышления, серьёзности, смелости осмыслить «стратегическое одиночество» (или суверенитет) и принять его.
Европейский концерт в глобальном масштабе
Участники дискуссии обратились к проблемам функционирования международной системы в целом, о чём говорил Джеффри Робертс. Как произошёл переход от эпохи постоянных войн (XVIII век) к периоду мира (XIX век), по крайней мере, между ключевыми великими державами (конфликты происходили, но они были локализованы)? Ключевым фактором стало влияние опыта пережитых войн и революций на тех, кто принимал решения. Великие державы пришли к Европейскому концерту потому, что для поддержания самого своего существования великим державам необходимо было сотрудничать. Автор считает, что для того, чтобы узнать, как поддерживается мир, необходимо изучить принципы работы Венской системы – самой успешной в Европе с точки зрения стабильности.
Концепция концерта великих держав желательна и необходима с точки зрения формирующейся многополярной системы. Для обеспечения мира и безопасности в условиях прочной многополярности необходимо глубокое и всеобъемлющее сотрудничество между великими державами. Угроза нестабильности для такой системы может возникнуть, когда одна или несколько великих держав решат обрести господство над всей системой. Исторически это уничтожало любые примеры многополярности.
Как обеспечить стабильность структуры? Венская система работала, как замечал историк Пол Шрёдер, благодаря политическому равновесию между великими державами (а не балансу сил).


Кроме того, существует концепция разделения мира на сферы влияния – хотя с политической точки зрения такой подход не кажется реалистичным.
Будущая многополярность XXI века, скорее всего, будет основана на свободном объединении великих держав на основе национальных интересов. На практике это могло бы осуществляться путём поддержания двусторонних отношений между великими державами: Россией, Китаем, Индией, в рамках БРИКС и так далее. Это уже происходит. Практический подход – главная составляющая успеха концерта великих держав. Там, где наши интересы совпадают, есть возможность сотрудничества. Главный вопрос, насколько глубоким и всеобъемлющим будет этот концерт, в какой степени США и другие игроки будут вовлечены в него. После прихода Трампа в Белый дом и радикального поворота во внешней политике США в отношении России и по украинскому вопросу концерт великих держав стал более реалистичной возможностью. У России был опыт поддержания Европейского концерта, где она была одним из ключевых игроков. У неё были возможности обрести положение гегемона, но она не стремилась к этому, а была настроена сотрудничать.
Смена элит и русофильство
Сегодня часто обсуждают причины русофобии в Европе, но мало кто изучает более интересный вопрос, причины русофилии – если не в ЕС, то в США, заметил Борис Межуев. Нынешняя американская администрация совершила дипломатическую революцию и разворот в отношениях с Россией. Если этот тренд продолжится, русофильство приведёт к устойчивым отношениям между двумя странами, что никак не вытекало из предыдущих обстоятельств нашей истории.
Были ли аналогичные ситуации, когда страна, на протяжении долгого времени занимающая русофобские позиции, по неясным причинам вдруг меняла вектор на пророссийский? Мы обнаруживаем такую аналогию в Великобритании в начале XX века, когда прежний антироссийский курс обоих кабинетов резко изменился. Каковы были причины и контекст?
Английское правительство в условиях «Большой игры» в Центральной Азии воспринимало Россию главным соперником и считало, что противодействие ей должно быть главным вектором внешней политики Великобритании. Ситуация изменилась в 1907 г. с приходом к власти сына королевы Виктории Эдуарда. Обычно этот перелом объясняется появлением более могущественного соперника, Германии (проникновением Германии в Османскую империю и строительством Багдадской железной дороги) и потерей актуальности прежней антироссийской линии.
Однако сегодня историки указывают, что перелом произошёл раньше, со сменой власти. Этому есть несколько причин.
Первая (и главная) – политическая ротация. У новой администрации всегда возникает желание сменить внешнеполитическую ориентацию. Сегодня это происходит в США, республиканцы осуществляют перезагрузку.
Вторая – наличие более сильного соперника. Сегодня – Китай, тогда – подъём Германии.
Третья – идеологическая близость и совмещение несовместимого, империализма и миролюбия.
Четвёртая – группы влияния, работающие в пророссийскую сторону. В США Вэнс – яркий представитель. И сейчас, и тогда зазвучали те, кто говорил о миролюбии России, особом российском понимании внутренних процессов. Одна из важных тем, которые породили если не Трампа, то Вэнса – то, что русские вообще за мир. Всё, что сейчас происходит на Украине, это не дело рук России. Главная причина конфликта – позиция Украины и Европы по расширению НАТО и срыв стамбульских соглашений, которые не были выполнены по инициативе Великобритании.
Впрочем, опыт прошлых разворотов свидетельствует и о другом. Вовлечение России в западные конфигурации вело не к установлению прочных отношений, а к переходу конфликтов на новый уровень, зачастую с ещё более глубоким втягиванием в них России.
Итоги сессии ещё раз подчеркнули актуальность исследований, касающихся «коллективного Запада», которая со сменой американской администрации становится всё более острой.
Материал подготовила Евгения Прокопчук