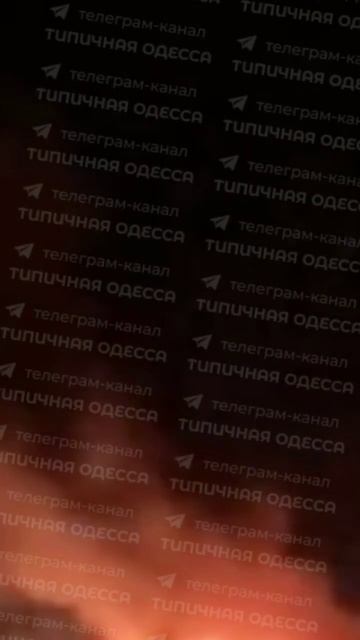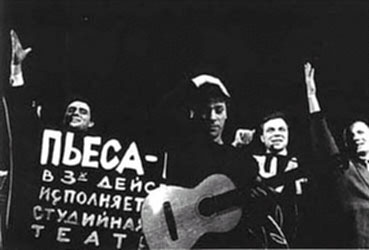«Под огнем» Алекса Гарленда и Рэя Мендосы — блестящий фильм о войне в Ираке, который физически сложно смотреть. И он точно понравится далеко не всем
В российский прокат 10 апреля вышел фильм «Под огнем» (Warfare) британского режиссера Алекса Гарленда и его соавтора, ветерана американской армии Рэя Мендосы. События разворачиваются в 2006 году в Ираке. Отряд элитных бойцов попадает в осаду на вражеской территории — и это приводит к жестокой бойне. По просьбе «Медузы» кинокритик Елена Смолина рассказывает, как авторам удается показать в этом безупречно срежиссированном фильме выкристаллизованную суть любой войны.


В российский прокат 10 апреля вышел фильм «Под огнем» (Warfare) британского режиссера Алекса Гарленда и его соавтора, ветерана американской армии Рэя Мендосы. События разворачиваются в 2006 году в Ираке. Отряд элитных бойцов попадает в осаду на вражеской территории — и это приводит к жестокой бойне. По просьбе «Медузы» кинокритик Елена Смолина рассказывает, как авторам удается показать в этом безупречно срежиссированном фильме выкристаллизованную суть любой войны.
Новый фильм Алекса Гарленда выходит всего через год после «Гражданской войны» (в российском прокате она называлась «Падение империи»), разделившей надвое американскую критику и публику. Картина «Под огнем» вновь сталкивает сторонников двух разных точек зрения на военное кино и, в меньшей степени, литературу.
Первая из них звучит так: любое настоящее военное кино по сути своей антивоенное. «Великая иллюзия» Жана Ренуара, «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Военно-полевой госпиталь» Роберта Олтмена, «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга. Во все кинематографические эпохи очень разные режиссеры — тяготеющие как к авторскому, так и к зрительскому кино, — взявшись за военную тему, неотвратимо приходили к выводу, что война — явление трагическое или абсурдное, но всегда ужасное и всегда нежелательное.
Другая точка зрения заключается в том, что сама природа кинематографического нарратива — сопереживание героям, погружение в их реальность, зрительское подключение к описываемым событиям — в какой-то степени предполагает если не прославление войны, то ее оправдание. Если мы болеем за «наших», то кем бы эти «наши» ни были, каким бы ужасным ни был их военный опыт, не обнуляет ли наше сопереживание антивоенный посыл? И не прославляет ли таким образом войну любое военное — и антивоенное — кино?
«Под огнем», совместно написанный и снятый Алексом Гарлендом и бывшим спецназовцем Рэем Мендосой, — попытка освободить военную драму от тех деталей, которые бы ее очеловечивали. Фильм, в оригинале так и названный «Warfare», — это война в чистом виде. Несмотря на то что в главных ролях целая россыпь самых ярких молодых актеров (Уил Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Джозеф Куинн, Чарльз Мелтон; все, кроме Мелтона, британцы), мы абсолютно ничего не знаем об их героях — американских спецназовцах, попавших под огонь в иракском городе Рамади. А раз мы ничего о них не знаем, тем более необъяснимой покажется мясорубка, через которую героям предстоит пройти.
Формально все понятно. Группа солдат занимает иракский дом, в котором на беду живут мирные жители, но дом этот подходит для наблюдения за моджахедами. Начинается операция, которая вскоре фактически превращается в осаду, — во дворе появляются чьи-то оторванные конечности, а дом наполняется криками раненых. С точки зрения фактов все ясно. Но с точки зрения жизни и смерти: зачем, ради чего, во имя какой цели люди из плоти и крови должны испытывать такой страх и такую боль?
Целиком основанный на воспоминаниях спецназовцев, участвовавших в реальной пошедшей наперекосяк операции, фильм Гарленда и Мендосы пугающе, до невыносимости достоверен. И за исключением короткой сцены перед титрами, он весь снят в реальном времени. Вначале это время тянется, когда снайпер Эллиотт (Космо Джарвис) через прицел наблюдает за рынком через дорогу: за столиками сидят люди, торгуют с лотков огурцами и лимонами, из чайника валит пар. Потом, когда солдаты попадают под обстрел, а переводчика разрывает пополам, время словно исчезает вообще. Оно пропадает вместе со всеми звуками, на смену которым приходит ватный, одуряющий гул. Когда «морские котики» будут просить по радио поддержки в эвакуации, чтобы спасти раненых товарищей (двое из них получают страшные, возможно, смертельные ранения), время разгоняется до сверхзвуковой скорости.
Это блестящий с точки зрения режиссуры фильм. Мендоса и Гарленд абсолютно точно знают, зачем применяют то или иное художественное решение, будь то звук отскакивающих смертельным стаккато гильз или красноватый, заволакивающий все вокруг дым разорвавшейся гранаты (буквальная иллюстрация понятия «туман войны»). Но следуя за этим туманом, авторы воздерживаются от того, чтобы сделать ясное высказывание.
Герои ли перед нами? Скорее всего. Была ли бессмысленной их жертва? Вероятно. Перевешивает ли одно — героизм — другое — бессмысленность?
Этот фильм не только не дает ответов, но и не до конца уверенно ставит перед зрителями именно эти вопросы. Как и в случае с вышедшей всего год назад, оставленной без наград и в значительной степени не получившей признания «Гражданской войной», где военные журналисты ехали через обескровленную, превращенную в постапокалиптическую пустошь Америку, Гарленд и здесь выбирает аскетизм. И метод этот способен взбесить одних и восхитить других.
Англичанин, он смотрит на важнейшие для новейшей американской истории события — будь то война в Ираке или современный политический раскол — взглядом постороннего. Он намеренно отбрасывает нюансы. Чтобы яснее увидеть происходящее, Гарленд словно делает шаг назад, но то, что у него получается в результате, — не упрощение. Скорее кристаллизация. Попытка развести рукой туман войны.
О фильме Гарленда «Гражданская война»
Елена Смолина