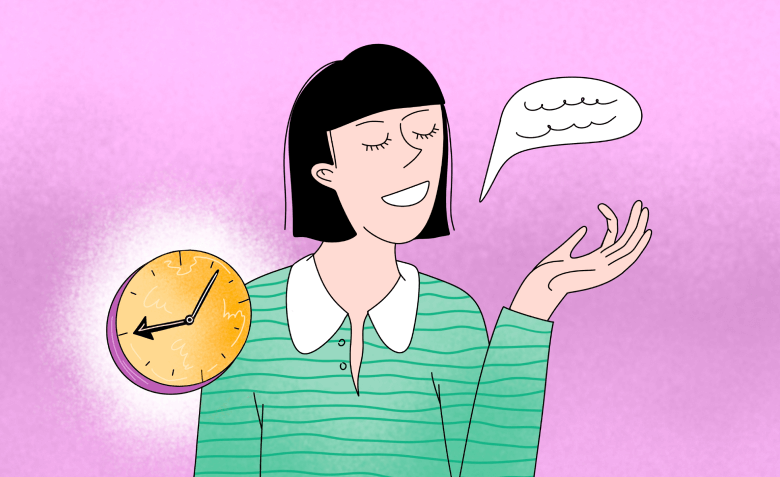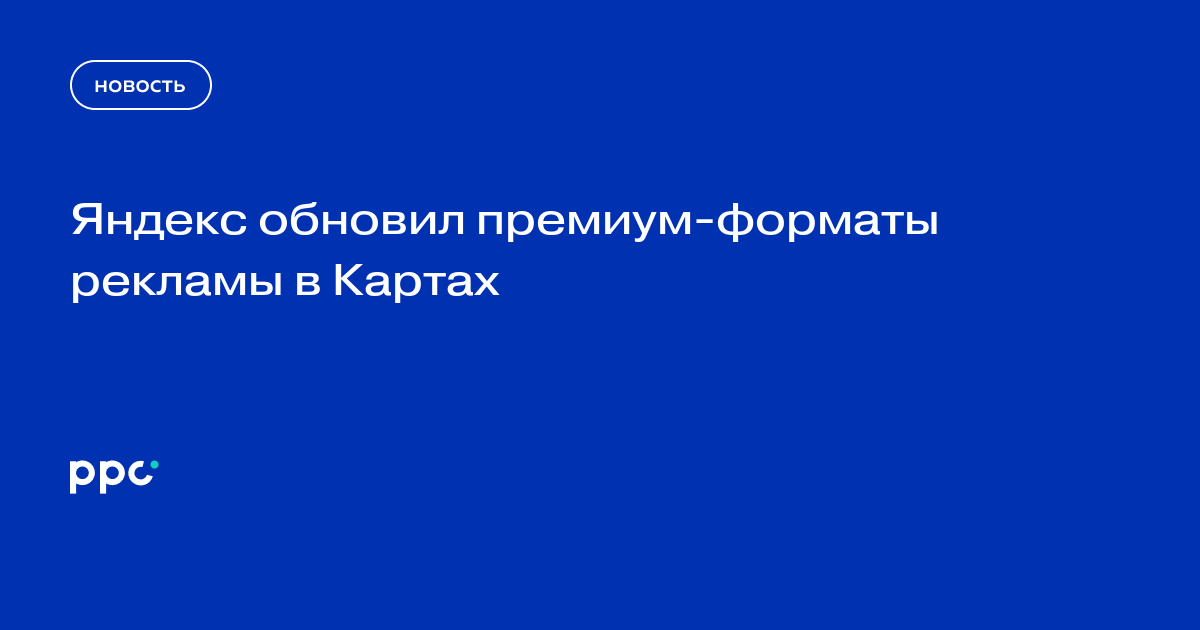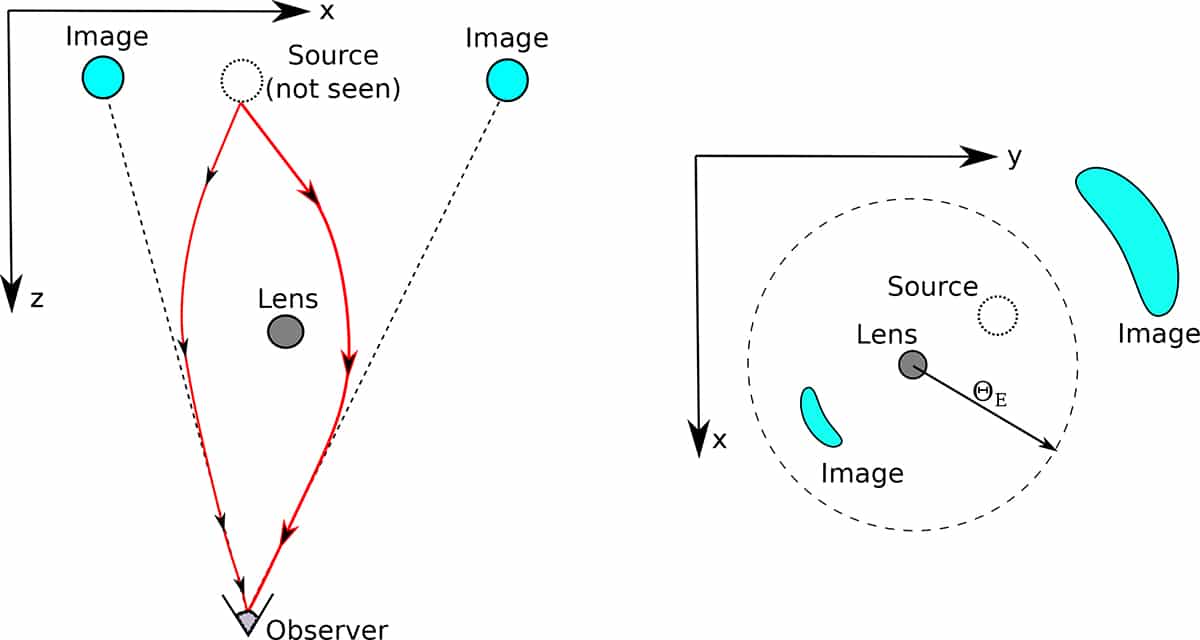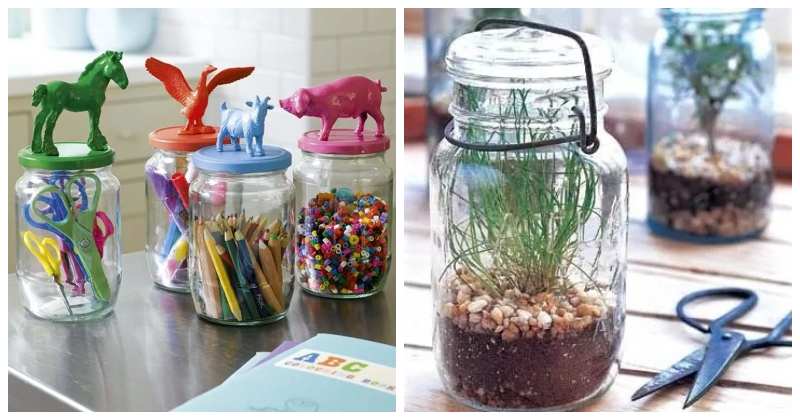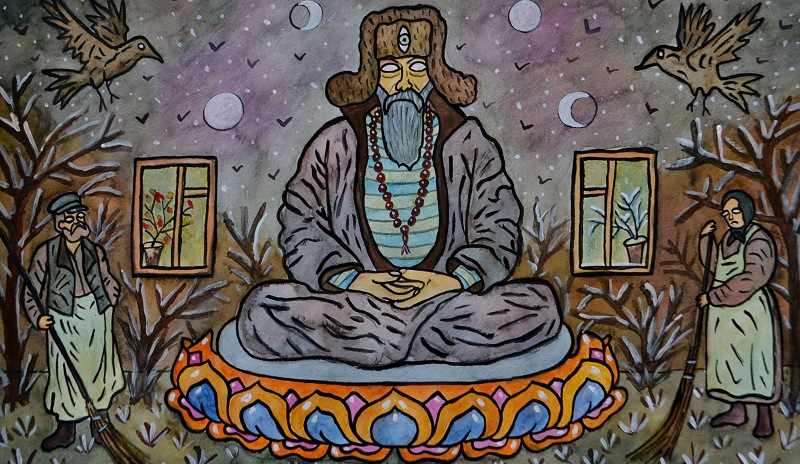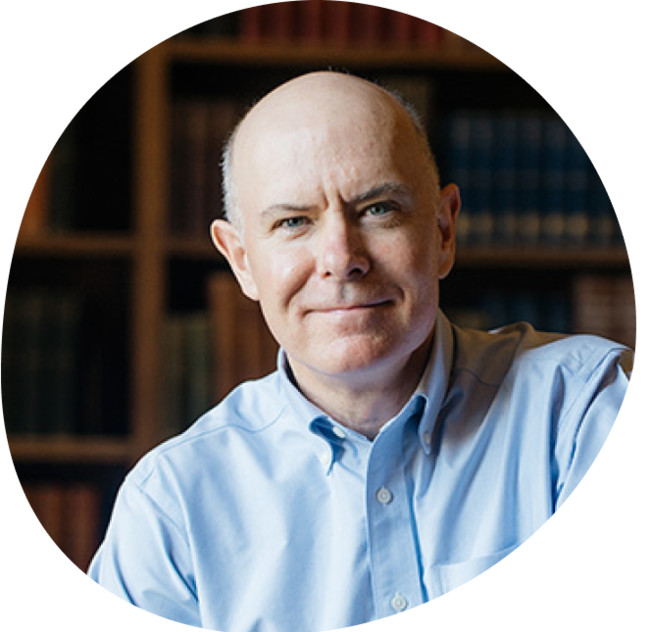«Мы живем в эпоху геополитических конфликтов. И это норма для последних двух веков». Исследователь международной торговли Дуглас Ирвин — о торговых войнах Трампа и их последствиях
Вскоре после возвращения в Белый дом Дональд Трамп начал сразу несколько торговых войн. 4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады, а также 20-процентные тарифы на любой импорт из Китая. Пошлиной в 25% могут быть обложены и все товары из ЕС. При этом основная финансовая нагрузка из-за тарифов ляжет на американских потребителей — например, стоимость нового автомобиля может вырасти на несколько тысяч долларов. «Медуза» спросила американского экономиста, профессора Дартмутского колледжа и автора семи книг о международной торговле Дугласа Ирвина о том, зачем Трамп начинает торговые войны и могут ли США в них выиграть.


Вскоре после возвращения в Белый дом Дональд Трамп начал сразу несколько торговых войн. 4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады, а также 20-процентные тарифы на любой импорт из Китая. Пошлиной в 25% могут быть обложены и все товары из ЕС. При этом основная финансовая нагрузка из-за тарифов ляжет на американских потребителей — например, стоимость нового автомобиля может вырасти на несколько тысяч долларов. «Медуза» спросила американского экономиста, профессора Дартмутского колледжа и автора семи книг о международной торговле Дугласа Ирвина о том, зачем Трамп начинает торговые войны и могут ли США в них выиграть.
— Почему Дональд Трамп вводит торговые меры в первую очередь по отношению к ближайшим соседям? Можно ли сказать, что для него тарифы — это лишь способ вести переговоры и он не собирается начинать полноценную торговую войну с Канадой и Мексикой?
— Это очень интересный вопрос, потому что даже нам в США сложно понять истинные мотивы и цели Трампа. Он часто говорит о важности тарифов для защиты американских рабочих мест — это выглядит не как переговорный рычаг, а как мера, чтобы стимулировать перенос инвестиций из Канады и Мексики в США. В логике Трампа «если что-то произведено в США, то тариф не нужно платить». Это не выглядит как переговорная уловка.
— Как вообще работают тарифы? Есть ли какие-то нюансы, которые люди не учитывают, когда рассуждают о них?
— В общем смысле тарифы — это налоги на импортируемые товары, которые приносят доход правительству. В моей книге по торговой политике США я пишу о трех причинах введения тарифов — это три «Р»: доход, ограничение — то есть защита отечественного производства — и взаимные меры, чтобы заставить другую страну соблюдать торговые соглашения или сесть за стол переговоров. Администрация Трампа использует тарифы для всех этих целей одновременно, что приводит к путанице.
При этом тарифы — очень регрессивная торговая мера. Они поднимают цену импортируемых товаров на внутреннем рынке, и основная нагрузка приходится на домохозяйства с низким доходом. Если, скажем, на обувь введен тариф 50%, то цена новых кроссовок вырастает на эти же 50%. Для богатого это не так критично, а для человека с ограниченным доходом такое повышение рискует стать решающим фактором, и он может отложить покупку.
Ущерб же для всей экономики США от нынешних тарифов не очень велик. Он оценивается примерно в 0,3–0,4% ВВП. При этом значение вырастет при ответных мерах: я видел оценки, где потери доходят до 0,5–0,6% ВВП.
— Какая из трех целей главная для Трампа?
— Вернуть инвестиции и производства в США, которые, по его мнению, ушли в азиатские страны или в Мексику. Он хочет, чтобы в США производилось больше автомобилей, стали, полупроводников, и считает, что тарифы — это удобный инструмент для достижения этого.
К слову, в начале 2000-х подобным образом Джордж Буш защитил стальную промышленность, чтобы заручиться поддержкой избирателей на выборах 2004 года. Но тогда это не переросло в полноценную торговую войну, поскольку против США был подан иск в ВТО и Штаты не стали вводить тарифы.
Во время предвыборной кампании и в первый президентский срок Трамп атаковал НАФТА, называя его худшим торговым соглашением в истории, а затем представил практически такой же USMCA. Теперь же он нарушает USMCA и вводит тарифы против Канады и Мексики. Это показывает, что его не очень волнуют соглашения и он не хочет улучшить их условия — цель в другом.
Что происходит с экономикой США?
— 13 марта Трамп пригрозил ввести пошлины в 200 процентов на весь алкоголь из ЕС, который в свою очередь ввел тарифы на виски (в ответ на другие американские тарифы). Почему именно виски и именно алкоголь? Как политики выбирают сферы для тарифов?
— Решение ЕС связано с тем, что США ужесточили импортные ограничения на сталь. Европа очень стратегически подходит к выбору продуктов для ответных мер — они подбирают такие товары, которые нанесут максимально политический (американский виски производят в Кентукки, очень консервативном штате) и экономический удар по США, при этом минимизируя ущерб для себя.
Именно поэтому часто страдает американское сельское хозяйство — допустим, в Европе у вас есть выбор, какую пшеницу купить: американскую, канадскую, аргентинскую или австралийскую. То же самое касается и сои — европейцы могут выбрать бразильскую или аргентинскую. В случае пошлин в этих сферах США лишатся доступа к рынку, а потребители не сильно пострадают, так как могут найти альтернативного поставщика.
Что касается ответа Трампа — он, видимо, не до конца знает, что именно импортируется из Европы, и ассоциирует Францию с шампанским — поэтому и решил сделать акцент именно на этом продукте.
При этом заставить другую страну подчиниться или пойти на какие-то уступки через введение тарифов невозможно. Если попытаться запугать любое государство, оно начнет защищаться. Мы наблюдаем это в ЕС, в Китае и других странах, которые вводят ответные тарифы.
— Насколько масштабными могут быть последствия торговых войн?
— Их можно проследить на примерах из прошлого. В 1920-е западные страны пытались устранить накопившиеся во время Первой мировой войны ограничения на торговлю. Однако затем наступила Великая депрессия — огромный шок для экономики США. Из-за нее там приняли закон Смута — Хоули, а Канада в ответ установила тарифы на 30% импортируемых из США товаров. 1930-е годы принято считать эпохой большой торговой войны, когда многие государства либо по собственной инициативе, либо в ответ на чужие меры вводили ограничения на торговлю.
Такие войны необязательно приводят к масштабному упадку или даже к рецессии экономики, но они определенно снижают доходы для всех сторон. Ведь торговля помогает всем государствам достигать более высокого уровня благосостояния.
Допустим, торговая война между США и Китаем в первый срок Трампа привела к сокращению объема торговли между двумя этими странами. Также Штаты стали больше закупать товары из Вьетнама и других стран. То есть общий объем импорта не уменьшился, а просто изменился источник поставок.
Кроме того, Китай ввел ответные меры против американских сельскохозяйственных товаров. После [в октябре 2019 года] была подписана фаза первого торгового соглашения, согласно которой Китай должен был увеличить закупки американских товаров, [а США перестать вводить новые тарифы], но в полной мере он так и не выполнил свои обязательства. Из-за пандемии ковида всем стало не до этого.
Если говорить про малые или развивающиеся экономики, которые не участвуют в конфликте напрямую, то они получают выгоду — например, [за последние 10 лет] Бразилия выиграла, когда в 2018 году Китай ввел тарифы на сою. На нее резко выросли цены, и Бразилия, которая тоже экспортирует сою, смогла продать ее значительно больше. Но, с другой стороны, сокращение объема глобальной торговли негативно сказывается на всех странах, так как замедляется общемировой экономический рост.
— Что еще могут делать страны во время торговых войн, кроме как вводить тарифы?
— Помимо пошлин, США могут использовать финансовые ограничения, потому что контролируют доллар и большую часть международных банковских сетей. Это может выражаться в ограничении доступа других стран к ним, замораживании активов, затруднении проведения платежей.
Кроме того, речь может идти об иностранном инвестировании. Например, о вводе мер, которые ограничат участие иностранных субъектов на внутреннем рынке. Кстати, из последних примеров к этому относится попытка заблокировать TikTok или запрет для Huawei на установку сетей 5G в США.
При этом если говорить о компаниях, то они могут менять источники поставок, чтобы не подпадать под пошлины. Допустим, если на товары из Китая введены высокие тарифы, можно перенести производство во Вьетнам. Или изменить характеристики продукта, чтобы он не подпадал под налог. Это называется тарифным инжинирингом.
Почему хотят забанить тикток?
— В 1990-х и 2000-х годах преобладал оптимизм относительно формирования зон свободной торговли. Сейчас, кажется, происходит обратный тренд. Можно ли до сих пор утверждать, что мы живем в эпоху «конца истории»?
— В этом есть доля правды. То, что происходило в 1990-х и 2000-х годах, было уникальным периодом — американские политологи называют его «однополярным моментом». Тогда США были на вершине после окончания холодной войны, Советский Союз распался, а Китай открылся и начал либерализацию. Геополитическая конкуренция практически отсутствовала: Китай просто стремился к экономическому росту, а бывшие советские республики пытались стабилизировать свои экономики. Все страны стремились обогатиться через торговлю.
С тех пор мир не менялся кардинально — как, например, в 1914 году, — это была постепенная эволюция. Началось все с провала Дохийских переговоров по ВТО, продолжилось глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов (в значительной степени по вине США) и возвращением промышленной политики в Китае. Все это в совокупности привело к нынешней реальности.
Уникальный 20-летний период закончился. Теперь Китай заинтересован в расширении сферы влияния в Азии, а Россия — если не в воссоздании старого советского блока, то уж точно в противостоянии со своими соседями. Сейчас мы живем в эпоху геополитических конфликтов, что на самом деле как раз и является нормой для последних двух веков.
— Может ли кто-то остановить торговые войны? Например, ВТО, которая сейчас призывает страны «прислушаться к США», чтобы торговые войны не развернулись еще больше.
— ВТО, основанная в 1995 году, в первые 10–15 лет работала очень успешно, предоставляя правовую инфраструктуру для разрешения споров. Благодаря ей торговые стычки оставались мелкими столкновениями и решались в судах, а не усилением ответных мер. Большинство стран принимали эту систему и придерживались ее.
Проблема в том, что сейчас вся эта система находится под вопросом, главным образом из-за позиции США. Когда система добровольная и вы отказываетесь от нее, то начинает действовать принцип «все можно». Мы живем в мире, где правила ВТО уже не имеют прежнего значения, по крайней мере для крупных игроков.
Любое соглашение можно нарушить, если отсутствует механизм принуждения. На международном уровне их практически нет, ведь речь идет о суверенных государствах, и требуется взаимное доверие. Если оно утрачивается, договоры становятся бессмысленными.
— Помимо тарифов, Трамп шутит, что Канада может стать 51-м штатом, и называет Джастина Трюдо губернатором, а не премьер-министром. Были ли в истории случаи, когда торговая война переросла в настоящую?
— Это хороший вопрос. В конце XIX века США также проявляли интерес к приобретению Канады, и тогда тоже действовали высокие тарифы. Так что исторически есть прецеденты, когда идеи торговой войны и территориальных притязаний переплетались.
Кроме того, среди экономистов ведутся дискуссии об экспансии в 1930-х годах, как в случае с Японией в Азии, так и с Германией в Европе, когда ограничения в торговле приводили к мысли, что если нельзя обеспечить поставки необходимых товаров, то нужно напрямую аннексировать территории и контролировать ресурсы. После того как США ввели нефтяные санкции против Японии в 1941 году, она решила военным путем захватить месторождения в Индонезии и других регионах.
— Как заканчиваются торговые войны? Можно ли выявить победителей и проигравших?
— Одна из общих проблем торговых войн в том, что барьеры легко вводятся, но медленно снимаются. Обе стороны терпят потери, пусть и не в равной мере, поскольку всегда существует дисбаланс сил.
Деэскалация торговой напряженности в долгосрочной перспективе благоприятна для обоих участников конфликта. Но все зависит от политической воли: лидеры государств должны прийти к пониманию, что им выгоднее налаживать отношения. Именно поэтому известный американский экономист Ричард Купер любил говорить, что торговая политика — это внешняя политика.
Подробнее о торговых войнах
«Медуза»