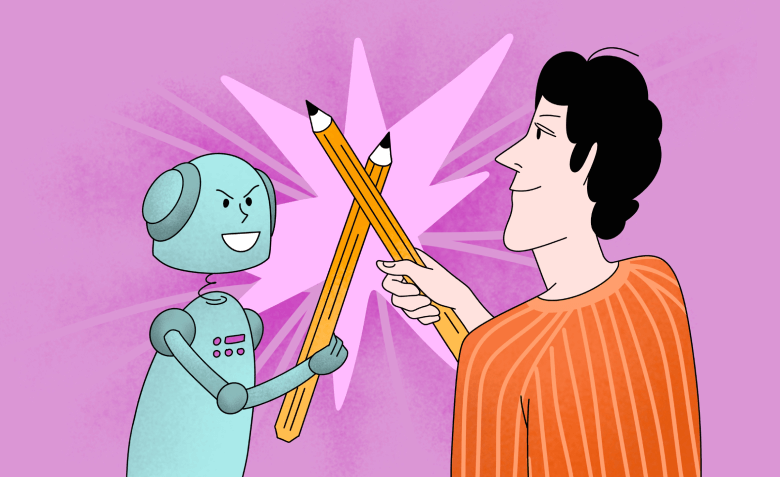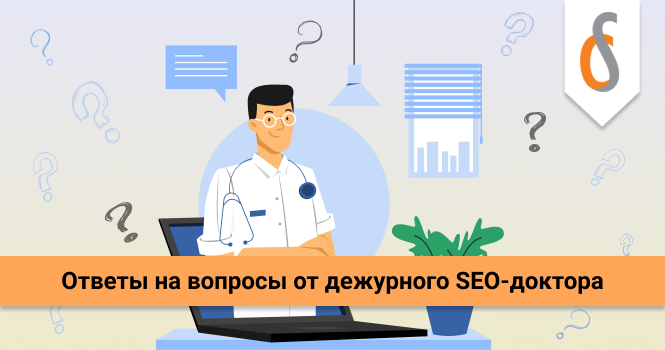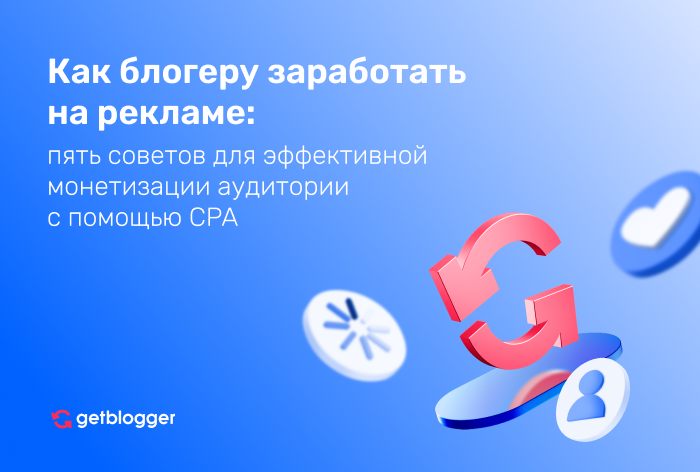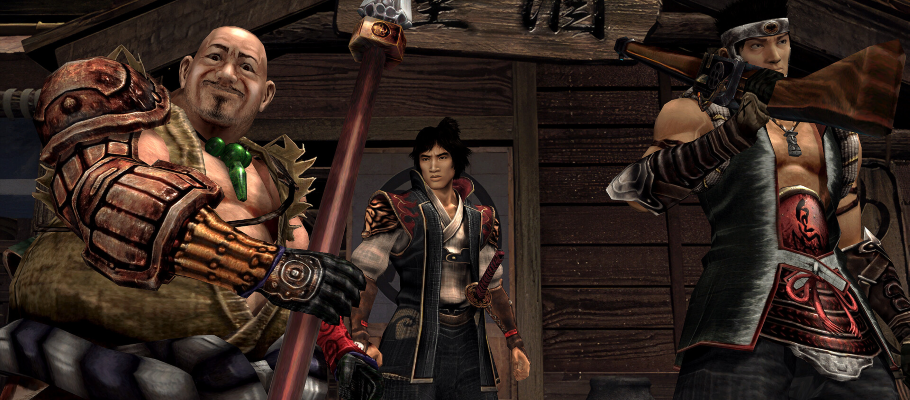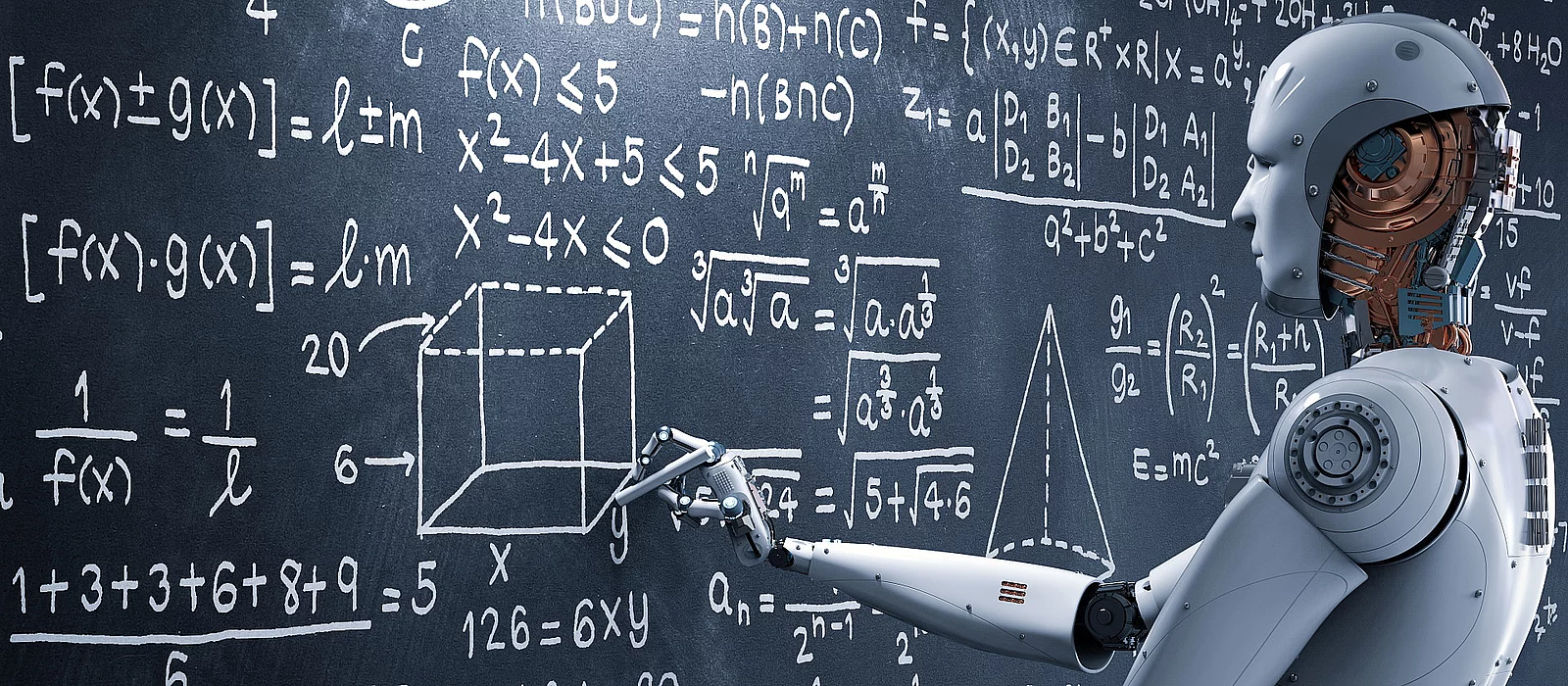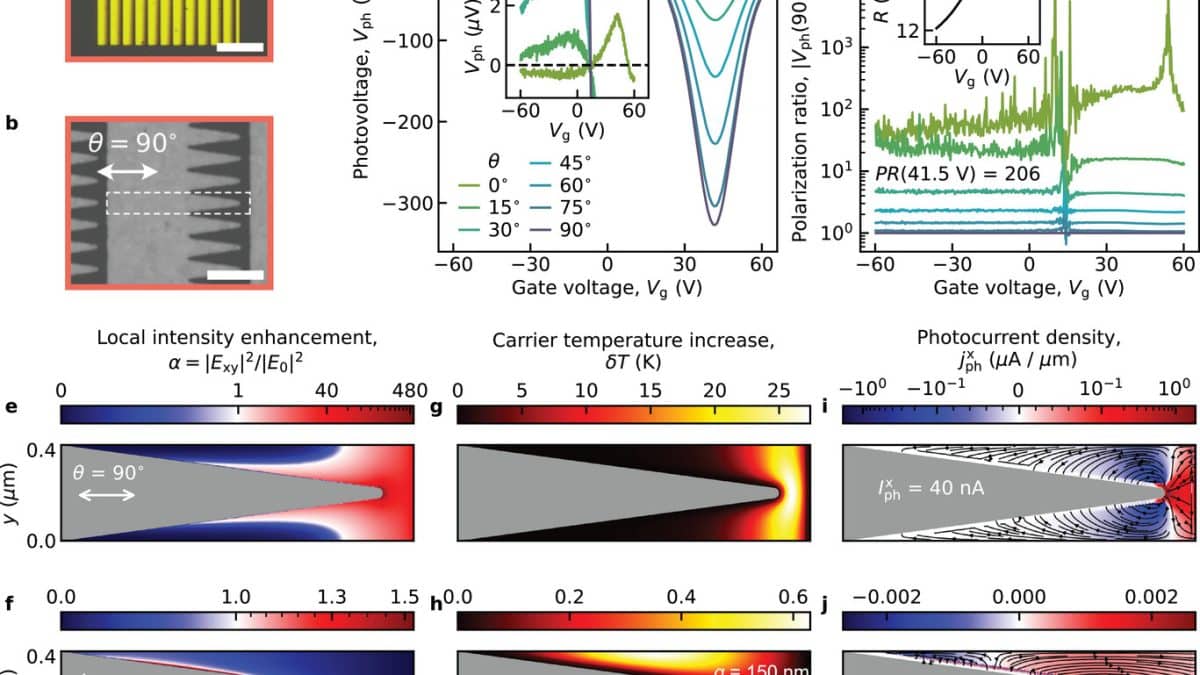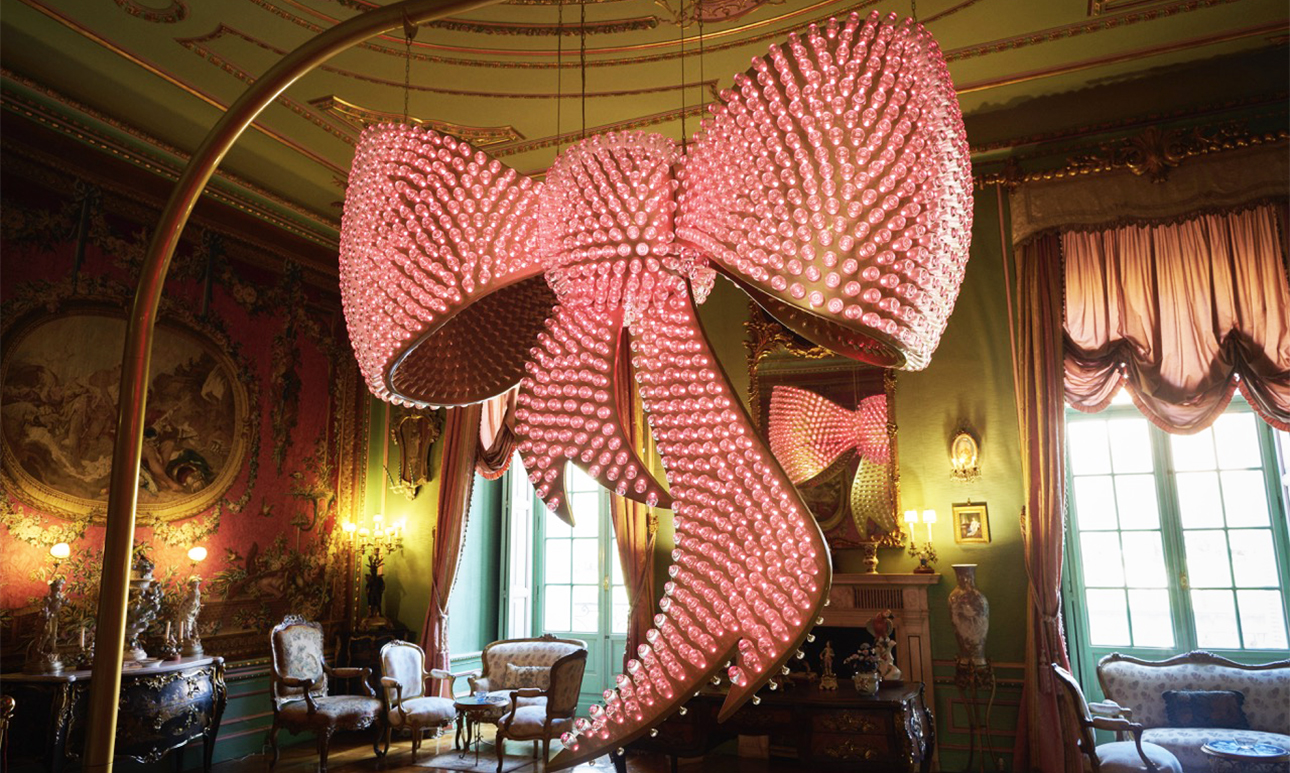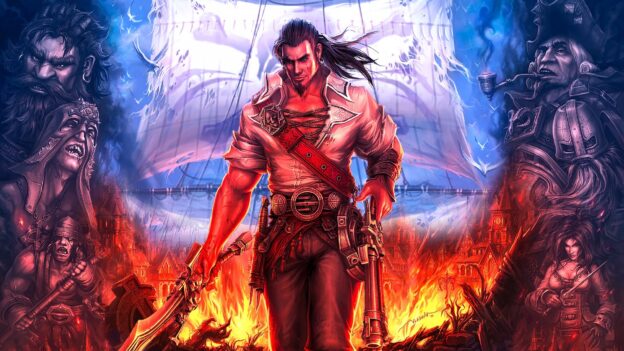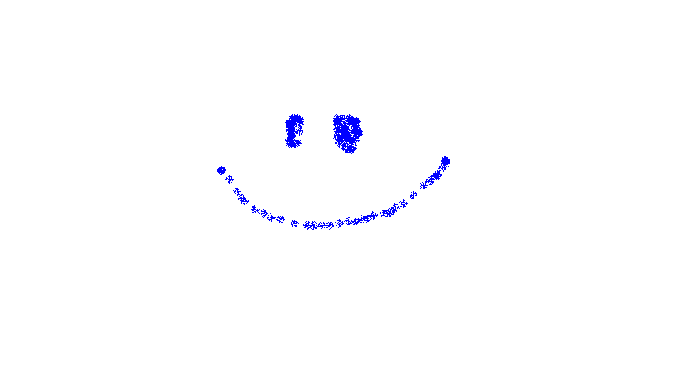Доживём ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой?
Уровень угроз в мире сейчас выше, чем в любой момент эпохи холодной войны. И хотя ситуация постепенно улучшается, пока эти угрозы полностью не устранены, будущее под вопросом. О том, почему так важно помнить уроки Второй мировой, реформировать Совбез ООН и избежать новой большой войны, Фёдору Лукьянову рассказал Джеффри Робертс, почётный профессор истории Университетского колледжа Корка […]

Уровень угроз в мире сейчас выше, чем в любой момент эпохи холодной войны. И хотя ситуация постепенно улучшается, пока эти угрозы полностью не устранены, будущее под вопросом. О том, почему так важно помнить уроки Второй мировой, реформировать Совбез ООН и избежать новой большой войны, Фёдору Лукьянову рассказал Джеффри Робертс, почётный профессор истории Университетского колледжа Корка (Ирландия), в интервью для программы «Международное обозрение».
Фёдор Лукьянов: Завершение Второй мировой войны и создание Организации Объединённых Наций заложили основу для формирования мирового порядка. Сейчас он либо уходит, либо уже ушёл в прошлое. В этой связи вопрос – что Вторая мировая значит для нас сегодня?
Джеффри Робертс: Да, окончание войны и учреждение ООН действительно обещали новый мировой порядок, основанный на концерте великих держав – глобальном сотрудничестве между Великобританией, Соединёнными Штатами, Советским Союзом и другими странами. Однако этот новый мировой порядок так и не успел окрепнуть и войти в силу, рухнув под натиском холодной войны. Таким образом, мировой порядок, сложившийся после Второй мировой, фактически представлял собой порядок холодной войны, который сохранялся вплоть до её окончания в 1990-е годы.
Безусловно, мировой порядок времён холодной войны был опасным, полным конфликтов и дорогостоящим во многих отношениях. Вместе с тем он предполагал определённую стабильность, вот почему многие люди испытывают ностальгию, вспоминая о том времени. Тогда было понятно, какое место какая страна занимает в международной системе, а международные отношения были предсказуемыми и упорядоченными. Однако не следует недооценивать угрозы, которые скрывала в себе холодная война. Сегодня мы можем говорить о начале новой холодной войны – и это вопрос, требующий отдельной дискуссии. Так вот, угрозы, созданные холодной войной, сохраняются и, очевидно, в связи с событиями последних лет стали ещё более явными.
Фёдор Лукьянов: Возвращаясь к основанию ООН, следует отметить, что спроектированный концерт держав никогда не функционировал так, как его задумывали. Вместе с тем, на мой взгляд, эта идея носила скорее утопический характер, а реальность, как всегда, внесла свои коррективы. И всё же холодная война не переросла в Третью мировую, а регулирование международных отношений в тот период было исключительным по сравнению с предыдущими историческими эпохами и, вероятно, с тем, что нас ожидает в будущем. Система функционировала – институты, как и ядерное оружие, служили ограничителями для держав.
Джеффри Робертс: Я бы не стал называть эту идею утопической. Представления об устойчивом мире, сохранении «большой тройки» и глобальном концерте держав после Второй мировой войны, безусловно, были оптимистическими. Этот проект провалился, и провалился он по политическим и идеологическим причинам. Я не считаю, что провал был неизбежен, однако он оказался возможным в силу сложившихся политических и идеологических обстоятельств.
Если говорить о мировом порядке времён холодной войны, стоит отметить, что он поддерживался не самой холодной войной, а, во-первых, благодаря тому, что продолжала существовать система суверенных государств, сформировавшаяся после заключения Вестфальского мира, и, во-вторых, благодаря развитию международного общества, особенно в XIX веке.
Организация Объединённых Наций – это международный институт, основанный на принципе государственного суверенитета. Следовательно, стабильность мирового порядка обеспечивала не холодная война. Этим занималось международное общество, сумевшее выстоять в условиях холодной войны.
Главная опасность холодной войны – помимо того, что она несла экзистенциальную угрозу человеческой цивилизации – заключалась в том, что она ещё и постоянно угрожала разрушением самого международного общества. Примечательно, что именно коммунистический блок – Советский Союз и Китай – был наиболее последовательным защитником государственного суверенитета и международного общества. После окончания холодной войны мы подошли к критическому моменту, когда международное общество и государственный суверенитет оказались под угрозой, поскольку Соединённые Штаты и Запад в целом стремились к мировому влиянию путём навязывания «универсальной» западной картины мира, своих ценностей, своего контроля и своей помощи.


В настоящее время, однако, я бы сказал, что точка зрения о необходимости поддержки международного общества и государственного суверенитета набирает силу. Важнейшим событием последних лет стало возвращение Соединённых Штатов к представлению о себе как о суверенном государстве, пусть и могущественном, но существующем в рамках системы суверенных государств, признающем многополярность, необходимость в сотрудничестве, поиске компромиссов и приложении усилий для балансировки интересов различных акторов.
Фёдор Лукьянов: То есть принцип государственного суверенитета – существование суверенных государств – стабилизирует международную систему?
Джеффри Робертс: В условиях международного общества, когда существуют общие ценности и общие институты, такие, как, например, международное право, человечество прикладывает усилия, направленные на стабилизацию международного общества и смягчение конфликтов, возникающих по причине разногласий между суверенными государствами, отстаивающими собственные интересы.
Международное общество не возникает априори – потому что есть суверенные государства. Международное общество – это историческая конструкция, процесс формирования которой продолжается. В настоящий момент, я надеюсь, мы находимся на новом этапе его развития, а не на этапе распада.
Фёдор Лукьянов: Государственный суверенитет – это европейская, западная концепция. Тем не менее сегодня представители самых разных государств с самыми разными культурными традициями стремятся активно участвовать в международной жизни и вносить свою лепту в обсуждение глобальных вещей. Можно ли считать, что страны Глобального Юга понимают суверенитет так же, как страны Запада?
Джеффри Робертс: Да, безусловно, идея о суверенитете и системе суверенных государств зародилась в Европе, а затем была универсализирована и глобализирована, в том числе благодаря империализму. Страны Глобального Юга приняли эту идею, поскольку она отвечала их интересам и в определённом смысле наделяла их силой перед лицом бывших колониальных держав. Более того, подобная рамка не только допускала, но и поощряла разнообразие и плюрализм, сосуществование различных цивилизаций, ценностей и устремлений. Таким образом, страны Глобального Юга являются одними из наиболее активных защитников суверенитета и концепции международного общества в целом. Их позиция именно такая.
Фёдор Лукьянов: Когда вы говорите о международном обществе, вы имеете в виду концепцию английской школы международных отношений?
Джеффри Робертс: Да, именно так. Английская школа международных отношений – это академический дискурс, который наиболее полно представляет данную идею. Здесь международные отношения рассматриваются как система, в которой, несмотря на существование силы, интересов, конфликтов и войн, присутствуют также мир, порядок, сотрудничество, общие ценности, интересы и обязательства, человеческие отношения. Что это означает?
Английская школа видит международное общество как исторически развивающуюся глобальную политическую конструкцию, которая обладает весьма высокой ценностью, поскольку альтернативой ему, по сути, может быть лишь хаотичная многополярность, нестабильность или, что ещё более опасно, глобальное доминирование одного гегемона, навязывающего свою волю другим государствам. Идеи английской школы хороши тем, что они не только описывают и объясняют поведение государств, но и напутствуют нам – международное общество было создано благодаря усилиям самих государств, руками множества государственных деятелей, политиков, философов и юристов, а потому является чрезвычайно ценной системой, которую необходимо защищать, поддерживать и развивать в дальнейшем.
Фёдор Лукьянов: Как бы мы ни относились к ООН, её первоначальному замыслу и последующей трансформации, сегодня многие страны, особенно из числа мирового большинства, или Глобального Юга, утверждают (и у них есть на то основания), что международная система не может основываться на результатах войны, завершившейся восемьдесят лет назад. За это время международный ландшафт полностью изменился. Одним из препятствий для реформирования ООН является необходимость в выработке консенсусного решения по этому вопросу странами, обладающими привилегиями. С одной стороны, разумеется, никто не готов лишаться своего исключительного положения, с другой, статус-кво не может сохраняться вечно. На каких принципах, по вашему мнению, мог бы быть сформирован новый состав Совбеза ООН?
Джеффри Робертс: Очевидно, что международное общество должно меняться и эволюционировать, а ключевые институты, в частности ООН, а особенно её Совбез, нуждаются в реформировании. Если никаких изменений не произойдёт и ООН не будет реформирована, существует риск её окончательного паралича. Но добиться изменений крайне сложно из-за разнонаправленных интересов постоянных членов Совбеза и системы права вето. Совбез должен быть расширен за счёт новых постоянных членов, которые будут иметь все те же права, что и «старые» постоянные члены. Не может быть такого, что у каких-то стран – членов Совбеза есть право вето, а у каких-то нет. Таким образом, один из вариантов реформы – расширить круг государств с правом вето.
С другой стороны, я не уверен, что это хорошая идея, поскольку подобные нововведения, скорее всего, только усилят разногласия. Я бы предложил вернуться к первоначальной идее о Совбезе и о том, как он будет принимать решения, которая была предложена Советским Союзом, Сталиным. Предполагалось, что принятие решений будет осуществляться с общего согласия великих держав, единодушно. Можно было бы вообще избавиться от вето и договариваться по важным вопросам, по вопросам безопасности, на основе принципа единогласия, создавать условия для стимулирования поиска общих решений и компромиссов.


Но, говоря об этом, не могу не отметить, что сегодня Совбез ведёт себя весьма интересно. Ситуация складывается любопытным образом, но определённо – в положительную сторону. Мы наблюдаем элементы сотрудничества России и США в Совбезе – они голосуют одинаково, согласовывают тексты резолюций, что невозможно было представить ещё даже шесть месяцев назад. Это наглядно показывает, как быстро могут происходить перемены, и какими радикальными они могут быть. ООН должна меняться, реформирование должно стать одним из приоритетов организации. Российское правительство и сам Путин уже заявляли об этом.
Фёдор Лукьянов: Чрезвычайно важный для нас вопрос – мы сталкиваемся с несколькими параллельно живущими трактовками Второй мировой войны. Разные оценки этого конфликта, например, в России и Европе. Да, представления о причинах и последствиях войны никогда не совпадали полностью, но раньше существовала хотя бы возможность их гармонизации. Интерпретация, которая начала набирать силу в странах Восточной Европы, а сейчас становится популярной во всей Европе, полностью противоположна российской точке зрения. Подобные расхождения во взглядах на Вторую мировую войну неизбежны?
Джеффри Робертс: Я не думаю, что они неизбежны. Описанное вами – это безусловно правда, поскольку на самом деле существует расхождение в восприятии и интерпретациях Второй мировой войны, но это расхождение обусловлено несколькими факторами. Здесь можно говорить о текущем состоянии отношений между Россией и Западом, а также, например, об амбициях некоторых стран Восточной Европы, которые стремятся к более видному положению в рамках ЕС.
Однако я не считаю, что ситуация неизменна. Вернёмся к нынешнему российско-американскому взаимодействию – взгляд Дональда Трампа на Вторую мировую войну близок к российской точке зрения. Он считает, что война была выиграна прежде всего Соединёнными Штатами и Советским Союзом – или Соединёнными Штатами и Россией, – и в этом он абсолютно прав. Трамп, конечно, преувеличивает роль Америки, но он признаёт, что именно эти две страны стали великими победителями во Второй мировой войне.
Это не означает, что другие страны совсем не сыграли никакой роли – взять, например, Великобританию, французское движение сопротивления, Китай, который воевал с Японией. Но Трамп тем не менее прав, так общо формулируя представление о Второй мировой войне, и это обстоятельство сыграло, может быть, не очень большую, но всё же роль в нынешнем потеплении российско-американских отношений. Конечно, этот процесс может продолжиться.
Я посвятил много времени борьбе с ревизионистскими взглядами на Вторую мировую войну, к которым я отношусь весьма критично, но, думаю, общий дискурс можно изменить. Мы можем прийти к пусть и не полному, но к некоторому консенсусу. В отношении этого конфликта всегда будут разные точки зрения, но мы можем вернуться к тому, что было в 1980-е и 1990-е гг., когда существовал довольно широкий консенсус относительно значения войны и её итогов.
Фёдор Лукьянов: Если мы обратим внимание на трактовки других стран, например индийскую, мы увидим, что для них война выглядит совершенно иначе, не так, как для нас или Запада.
Джеффри Робертс: Да, Индия сыграла очень важную роль во Второй мировой войне. В то время Индия боролась за независимость, но индийские войска активно участвовали в боевых действиях на европейском и других фронтах.
Около 250 тысяч африканцев сражались на стороне союзников, десятки тысяч жителей Карибских островов были частью союзных сил. Люди из стран Глобального Юга сыграли огромную роль в победе, но их вклад часто отрицается или не замечается, поэтому здесь речь идёт не только о борьбе с русофобским ревизионизмом истории, но и о расширении горизонтов в понимании войны, признании вклада многих государств и народов в победу.
Фёдор Лукьянов: На ваш взгляд, будет ли через двадцать лет отмечаться столетняя годовщина окончания Второй мировой войны? Не угаснет ли значимость событий того времени?
Джеффри Робертс: Вторая мировая война стала настолько масштабным событием в истории человечества, что её влияние будет ощущаться не только десятилетиями, но и веками, поэтому, безусловно, в мае 2045 г. внимание всего мира будет сосредоточено на этом событии, если, конечно, мы все доживём до этого времени. Многое зависит от того, удастся ли нам справиться с текущими проблемами, конфликтами и экзистенциальными угрозами, чтобы избежать катастрофы.


Я бы сказал, что уровень угроз в мире сейчас выше, чем в любой момент эпохи холодной войны. Хотя ситуация постепенно улучшается, пока эти угрозы полностью не устранены, будущее под вопросом – не только в отношении празднования годовщины, но и в отношении всего мира в целом. Так что здесь я остаюсь одновременно и пессимистом, и оптимистом.
Фёдор Лукьянов: Значимость Второй мировой войны может быть затенена только Третьей мировой войной, а этого нам нужно всеми силами избегать.
Джеффри Робертс: Да, однако, если Третья мировая война действительно случится, она вряд ли будет иметь какое-либо значение, потому что маловероятно, что кто-то выживет, чтобы отмечать её годовщины. Хотя для немногих выживших, конечно, это будет крайне значимое событие.